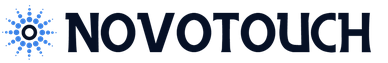Больные и раненые. Пока жива память о героях великой отечественной войны и их подвигах, живы и они Тема: Имя прилагательное в аспекте культуры речи
В период перегруппировок, которые предшествовали наступлению под Севском, большого потока раненых не было, но ежедневно все же поступало к нам от 80 до 100 человек.
Успешное наступление войск Центрального фронта вынудило гитлеровцев начать отход и перед фронтом 65-й армии. Наши потери, судя по количеству раненых, были несколько меньше, чем во время боев за Дмитровск-Орловский. Значительно улучшили работу полковые медицинские пункты. Мы, хирурги медсанбата, были очень довольны тем, что совместная учеба, проведенная вместе с полковыми врачами накануне наступления, дала свои результаты. Сослужили хорошее дело и инструктивные занятия с фельдшерами батальонных медицинских пунктов, с санинструкторами рот. Врачи полковых медицинских пунктов овладели противошоковыми мероприятиями, научились вводить противошоковые препараты и в отдельных случаях делать даже переливание крови, что ранее выполнялось только в медсанбате. Все это обеспечивало надежную транспортировку раненых в медсанбат.
Особенно хорошо трудились врачи полков Алексей Давыдов, погибший впоследствии под Данцигом от тяжелых ран, и Борис Губчевский. Своевременный вынос раненых с поля боя, правильное оказание им помощи на полковых медицинских пунктах и быстрая эвакуация в медсанбат заметно влияли на исход оперативных вмешательств при тяжелых ранениях.
Приятно было видеть, что прибывшие к нам после Сталинградской битвы ординаторы операционно-перевязочного взвода офицеры В. П. Тарусинов, К. П. Кусков успешно совершенствовали свои навыки, приобретали опыт. К сожалению, с Александром Воронцовым нам пришлось расстаться. Он заболел и после лечения в госпитале был направлен в другую армию. На его место назначили гвардии капитана медицинской службы В. М. Коваленко. Вскоре из дивизии был отозван также и мой однокурсник Ю. К. Крыжчковский. Он убыл в воздушно-десантные войска.
В эти дни я получил письма от братьев. Алексей писал, как всегда, скупо и кратко. Александр рассказывал о своих первых боях. По его намекам понял, что находится близ села Комаричи Брянской области. Это возвратило к мысли, что, наверное, все же его я видел той метельной ночью на дороге к фронту, А еще через несколько дней пришло известие о гибели Александра… Его боевые друзья сообщили, что Саша скончался 7 августа от осколочных ранений. Товарищи писали о его храбрости, высоко оценивали командирские качества…
Что делать? Горе слезами не растворяется, оно остается навсегда, лишь несколько притупляясь с годами. В ту пору горе было общим у всех советских людей, редкая семья не скорбела о погибших. Надо было сжать зубы и продолжать свое дело.
Снова, как писала сестра, слегла наша мама, которая очень тяжело переживала гибель второго сына. Я же опять и опять думал о той метельной ночи под Ливнами, когда мог повидать-Александра, и ругал себя за то, что не повидал…
А между тем дивизия шла вперед, гоня противника. К началу сентября позади осталось уже около ста километров. Колонна медсанбата проходила через населенные пункты Средина-Буда, Ямполь, Шостка. Везде нас с радостью встречали освобожденные от фашистского рабства жители. Женщины плакали, многие завидовали нашим медицинским сестрам, которые тоже участвовали в битве с захватчиками, и рвались в армию. В Средина-Буде и Ямполе из расформированных партизанских отрядов к нам в медсанбат были направлены санитарами Полина Ахтырка и Галя Луговик. Полина, как оказалось, ушла в отряд, сбежав от тетки, которая воспитывала ее. Галя Луговик до войны работала учительницей в начальной школе, в отряд вступила в первые дни вражеской оккупации.
Женский коллектив медсанбата принял пополнение доброжелательно. Девушки сразу были окружены вниманием и заботой, все им старались помочь побыстрее войти в строй, но допустить их к самостоятельной работе мы смогли не скоро: никакой медицинской подготовки у них не было. Помнится, Галя всегда говорила на чистом украинском языке. Была она застенчивой - может быть, стеснялась оставшихся на лице отметин после перенесенной оспы. Полина же, хоть и была значительно моложе своей подруги, легче сходилась с людьми, никогда не тушевалась. В конце войны она вышла замуж за молодого офицера и осталась работать в медсанбате.
8 сентября дивизия достигла Десны, в двух-трех километрах ниже Новгород-Северского на Черниговщине. С ходу форсировать реку не удалось, и началась подготовка к преодолению водного рубежа. Нам приказали развернуть медсанбат в деревне Пироговке, неподалеку от района предстоявших действий.
Форсирование Десны началось 12 сентября. Раненых поначалу было немного, их лоток увеличился позже, когда развернулись ожесточенные схватки на захваченном гвардейцами плацдарме. В эти дни наш командир дивизии Евгении Григорьевич Ушаков получил воинское звание гвардии генерал-майора.
А вскоре медсанбату поступил приказ снова идти вперёд. 20 сентября мы покинули Пироговку, оставив с ранеными хирургическую бригаду. Ей предстояло завершить оказание помощи еще не прооперированным, а затем передать всех наших пациентов в полевой подвижный госпиталь.
На протяжении нескольких недель батальон ни разу не успел развернуться полностью. Работали в постоянной готовности к дальнейшему продвижению и лишь в конце октября остановились на окраине поселка Городня Черниговской области, получив приказ быть готовыми к приему раненых.
Едва мы поставили палатки, как подъехал «виллис». Из него вышел начальник штаба дивизии теперь уже гвардии полковник И. К. Брушко и, увидев меня, попросил подойти. Я подумал: не случилось ли что? Так оно и было. Из машины с трудом выбирался заместитель командира дивизии гвардии полковник Василий Ильич Боклаков. Он громко поздоровался со мной, я ответил, но он знаками показал, что ничего не слышит.
Иван Кузьмич взял меня под руку и тихо сказал:
На заднем сиденье машинистка штаба. Она, кажется… - Брушко не договорил, а я уже увидел, что машинистка мертва.
А что с Боклаковым? Контужен? - спросил я.
Да, - кивнул Брушко и рассказал, что машина наехала задним колесом на мину. Все получили контузию, а машинистка погибла, очевидно, от внутреннего кровоизлияния, поскольку ни одной раны у нее не было.
Вскоре Брушко уехал, оставив в медсанбате Боклакова. Мы уложили его спать, но уже через полтора часа Василий Ильич пришел ко мне в операционную. Раненых было немного, и я смог оторваться от работы, чтобы побыть с ним до приезда Брушко. Вспомнил, как Боклаков прибыл в дивизию в марте 1943 года. Он был тогда майором, до назначения к нам командовал лыжной бригадой, участвовал в зимнем наступлении под Курском. Не раз мы вместе бывали на передовой, и всегда я удивлялся его храбрости. Однажды даже сказал об этом, на что Боклаков возразил:
Нет, я просто по звуку знаю, которая мина или пуля опасна или нет, а потому и не кланяюсь им без толку. И тебе не советую.
Когда мы шли с ним к передовой, он часто комментировал:
Это не наша.
Вскоре приехал Брушко и увез Боклакова. Даже от временной госпитализации, необходимой им обоим, они отказались, сославшись на дела.
Будут тяжелые бои. Готовьтесь! - на прощание сказал Брушко.
И действительно, вскоре стали поступать раненые, причем число их доходило от 170 до 280 человек в сутки. С обработкой такого потока раненых коллектив медсанбата справлялся без особого труда. Но вот на четвертый день боев я получил распоряжение прибыть с хирургической бригадой, в которую включить кроме меня еще одного врача и двух медсестер, в полевой хирургический госпиталь. Он располагался поблизости от штаба нашей дивизии в деревне Тереховке, юго-восточнее Гомеля. Госпиталь оказался единственным медицинским учреждением такого рода на правом фланге армии. Раненые в него поступали не только из медсанбатов, но и с полковых медпунктов, а иногда и прямо с поля боя. Зачастую они были даже не перевязаны должным образом. Персонал госпиталя впервые встретился с таким испытанием и оказался не в состоянии справиться с большим потоком раненых. Вот и решили привлечь на помощь хирургов медсанбата.
Глава тринадцатая
БОЛЕЗНИ И РАНЫ
Впрочем, такой еще тогда был в армии дух. Про малые раны и контузии говорили - «пустяки»; надо, чтобы порядочно прострелили - это рана…
H. Е. Митаревский. Воспоминания
Обратившись к документам, письмам, дневникам и воспоминаниям участников Отечественной войны 1812 года, мы безошибочно установим, кто из российских медиков той эпохи был самым знаменитым. Безусловно, баронет, действительный статский советник, врач-хирург, Яков Иванович Вилье. В те годы он, как говорится, лечил всех и вся. Вот, например, супруга генерала П. П. Коновницына Анна Ивановна сообщила в письме мужу в самый разгар военных действий о здоровье их дочери: «Лиза покашливает все периодами. Ни грудью, ни боком не жалуется. По рецепту в Опочке сделали капли, но не тот дух, что у Вилли (Вилье. - Л. И. ), и боюсь давать. Ревень ей давали, и очистило немного, кажется, поменее кашляет. Пою ее мятой, мать-и-мачехой» .
Из этих строк явствует, что авторитет Вилье неоспорим, притом что никто толком не знает, как правильно пишется его фамилия, что неудивительно. Мы можем лишь гадать о том, какая судьба занесла природного шотландца Джеймса Уэйли после окончания Эдинбургского университета на просторы необъятной России. Но, получив образование, он вступил в русскую службу полковым лекарем в Елецкий пехотный полк. Дальнейшую его карьеру можно назвать головокружительной. Не все относились к Якову Ивановичу с одинаковой симпатией. Н. И. Греч считал удачу Вилье делом случая, связанного с излечением знаменитого фаворита Павла I графа И. П. Кутайсова (отца начальника русской артиллерии при Бородине): «Вдруг Кутайсов заболел нарывом в горле. Его лечили первые придворные медики, но не смели сделать операции надрезом нарыва и ждали действия натуры, а боли между тем усиливались. По ночам дежурили у него полковые лекаря. Виллие явился в свою очередь и за ужином порядочно выпил даровой мадеры, сел в кресла у постели и заснул. Среди ночи сильное храпение разбудило его. Он подошел к больному и увидел, что он задыхается. Не думая долго, он вынул ланцет, и царап по нарыву. Гной брызнул из раны; больной мгновенно почувствовал облегчение и пришел в себя. Можно себе вообразить радость Павла: Виллие немедленно пошел в гору, был принят ко двору и сделался любимцем Александра. Предвидя ожидающую его фортуну, он выучился латинскому языку и по секрету прошел курс медицины и хирургии. Смелость, быстрый взгляд и верность руки много способствовали его успехам. Дальнейшее поприще его известно: он сделался лейб-медиком и любимцем Александра и, может быть, своей отважностью и самонадеянностью был причиною его преждевременной кончины. Он был начальником военно-медицинской части в России и во многом ее поднял, возбудив в русских врачах чувство собственного достоинства и даровав им права, обеспечившие их от притеснений военных начальств. Он проложил путь многим людям с талантами, как скоро они ему покорялись и льстили. Всех непокорных, кто бы они ни были, преследовал он и терзал всячески. Эгоизм и скупость его невероятны. Богатый, бездетный, он брал ежедневно по две восковые свечи из дворца, следовавшие дежурному лейб-медику, и во всем поступал по этой мере». Сообщив малоприятные сведения о скупости легендарного лейб-медика, автор воспоминаний в продолжение рассказа вдруг сообщил: «Виллие завещал свое огромное состояние в русскую казну, по медицинской части. Ему воздвигли за то монумент пред зданием медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, а родные его в Шотландии томятся в нищете. Но есть Высший суд на небе!»
Что правда, а что ложь в этом рассказе - разобрать трудно. Кем был Вилье на самом деле: стяжателем или подвижником? Может быть, и тем и другим, но заслуги его в эпоху 1812 года очевидны. Несомненно, он был, как и многие в те времена, «плохим хорошим человеком»: в его характере можно увидеть черты, которых хватило бы на несколько непохожих друг на друга людей. Действительно, став в 1814 году лейб-медиком Александра I, Я. И. Вилье не забыл и о своих сотрудниках, «подвизавшихся» с ним в дни мира и особенно в дни войны. Он добился того, чтобы российских медиков, прямо сказать, имевших «недворянскую» профессию, уравняли по Табели о рангах в чинопроизводстве с другими чиновниками. Император Александр не мог отказать хирургу, который на Бородинском поле лично произвел 200 операций. Впрочем, эту награду русские военные медики заслужили сполна. Труд врача - это всегда подвиг, но в те годы можно было лишь восхищаться подвижничеству «наследников Гиппократа», их любви к человечеству, выразившейся в пламенном желании облегчить его страдания. В 1812 году один из выпускников Московской медико-хирургической академии обратился к своим коллегам с такими словами: «Ибо что есть врач: врач есть воин, вооруженный всеми болезнеистребительными орудиями природы; поле брани его есть больное тело; оружие его есть неорганическая и органическая природа; выздоровление больного есть победа, честь, слава, благодарность и, что всего важнее, душевное удовольствие - суть его лавры» .
Во времена, когда не существовало ни анестезии, ни обезболивающих препаратов, военные медики на полях сражений отличались не меньшей стойкостью духа, чем их пациенты. Как истово выполняли на войне свой долг полковые медики! «Вдосталь я нагляделся невыразимо тяжких ран, кои перевязывали с усердием военные лекари, - рассказывал участник Смоленской битвы. - Я свидетелем был, как один лекарь с головой, обмотанной бинтом, на коем выступали пятна крови, продолжал сошивать рану страдальца-воина до тех пор, пока сам не упал от течения крови и истощения сил» . Имена русских врачей Е. О. Мухина, Ф. А. Гильтебрандта, М. Я. Мудрова, М. А. Баталина, X. И. Лодера, О. К. Каменецкого, И. Е. Грузинова были известны в армии и пользовались в офицерской среде почетом, невзирая на сословные различия. Так, H. Е. Митаревский вспоминал об одном из полковых лекарей Софийского пехотного полка, весьма колоритном представителе своей профессии: «Доктор, поклонник Вольтера, был в большом уважении, но из разбитного доктора впоследствии вышел чрезвычайно ловкий оператор. Он прославился по всему корпусу; не только раненые офицеры, но и солдаты просили вести их к Софийскому; под таким названием он был известен всему корпусу. Я сам видал его "на работе": это его собственный термин. Перевязывал он раны и делал операции с таким хладнокровием и равнодушием, как будто отрезывал ножку или крылушко жареной курицы. Иногда его, шутя, звали мясником; он на это не обижался, только говорил, смеясь: "Ну, ну, брат, смотри!.. Попадешься и ты в мои руки!!!"»
Генералы или штаб-офицеры, получившие тяжкое ранение, почти всегда попадали в руки медицинского светила, известного удачными опытами оперирования и выхаживания больных. Но бывали и исключения из правил: прославленные военачальники вверяли себя младшим лекарям и те совершали чудо: спасали им жизнь. Показательна «история болезни» М. Б. Барклая де Толли, рассказанная «лечащим врачом» М. А. Баталиным: « Полученная Барклаем де Толли по окончании Прейсиш-Эйлауского сражения рана была в небытность мою, а уведомил меня о сем бывший его адъютант Бартоломей с приказанием шефа полка сдать больных в Гродненский войсковой госпиталь и явиться в город Мемель, куда я тогда же и отправился и, прибыв туда, нашел, что рана была между плечом и локтем в средине правой руки от пули навылет и была перевязываема прусским врачом; раненая рука, слабо связанная, лежала в сделанном из картона корытце и перевязкою не была достаточно укреплена, отчего при каждом движении раздраженные кости причиняли жестокую боль, хотя советовал сделать перевязку, укрепив лубками, но на сие прусский хирург не согласился, он советовал сделать ампутацию, что подтвердили и другие прусские хирурги и медики, выводя заключение, что от большой ежедневной потери материи и крови может получить изнурительную лихорадку и может кончить жизнь прежде, нежели отделятся раздробленные кости и заживет рана; я против сего сделал возражение, что сложный перелом кости не есть показание к отнятию члена, а как скоро в Мемеле ожидали прибытия Государя Императора Александра и при нем, наверное, находиться будет Главной армии медицинский инспектор Яков Иванович Вилье, и он, увидя рану, наверное, сделает заключение, что рана излечится без ампутации и генерал останется с рукою. Вскоре после того, прибыв к раненому генералу, господин Вилье приказал мне развязать перевязку и, осмотря, нашел, что перевязка сделана слабо и отверстие раны для свободного выхода материи и отделившихся раздробленных костей недостаточно велико. Сделал разрез на наружной стороне от плеча к локтю, после, обложив лубком, приказал мне сделать соответствующую перевязку и поручил мне дальнейшее лечение, во время коего я вынул из раны 32 косточки» .
М. А. Баталии сохранил генералу руку, хотя последствия от тяжелого ранения, естественно, остались. На знаменитом портрете Дж. Доу в Военной галерее Зимнего дворца Барклай де Толли запечатлен во весь рост на фоне покоренного Парижа: левой рукой он поддерживает правую малоподвижную руку которую обычно он носил на перевязи.
Не менее показателен случай с «молодым лекарем конногвардейской артиллерии» Кучковским, положивший начало его известности в армии. Ему выпала судьба оказывать медицинскую помощь графу Александру Ивановичу Остерману-Толстому начальствовавшему русскими войсками в битве под Кульмом в августе 1813 года. В разгар сражения неприятельское ядро раздробило генералу левую руку до самого плеча. Мы уже отмечали значение «специфических форм сценичности, подчиняющих себе жизнь» в ту эпоху . В качестве яркой и выразительной иллюстрации подобной «сценичности» приведем пример поведения военачальника, получившего тяжелейшую рану, но продолжающего выстраивать свои поступки в соответствии с правилами «военной эстетики». Вот рассказ его адъютанта И. И. Лажечникова: «Остерман, потеряв руку, не чувствует страданий: он позабыл себя - он мыслит только о славе своего Отечества. Вынесенный с места сражения, готовясь к труднейшей операции, при дверях гроба, он весь еще на поле битвы; он весь среди храбрых своих сподвижников. "О чем плачете вы? - говорит он с твердостию патриота и христианина окружающим его. - Левая рука была у меня лишняя: осталась еще другая для защиты Отечества, служения Государю и творения Святого креста"».
«Потеря крови и истощение сил ввергают его в сильный обморок. В сие самое время приезжает к нему прусский король, расспрашивает с живейшим участием сопровождающих храброго вождя о состоянии его раны и, заключая по ответам их, что жизнь его в опасности, венценосный друг человечества не может удержать слез своих. Но, к общей радости, герой через несколько минут открывает глаза. Первым знаком в нем, знаком жизни есть мысль о Государе: и на краю гроба в самых хладных объятиях смерти сия мысль в нем не погасала! "Ваше ли Величество вижу? В безопасности ли Государь Император?" - спрашивает он короля прусского и, приметив слезы на лице Его Величества, силится привстать, чтобы изъяснить свою признательность к сим слезам, навсегда в его душе запечатленную» . Мы не можем позволить себе мысли о наличии преувеличений в этом рассказе из уважения к человеку, усилием воли подавлявшему страдания.
В ожидании операции Остерман прислушивался к тому, как трое лекарей рядом с ним спорили по-латыни, как лучше отнять ему раздробленную руку. Самый молодой из них, Кучковский, обернувшись к военачальнику, заметил в его глазах насмешку. «Напрасно, господа, толкуем по-латыни, - сказал он коллегам, - граф ее лучше нашего знает!» В ответ раздался голос Остермана: «Ты молодец! На, режь ты, а не другой кто!» Операционным столом служил барабан. Рядом с палаткой, где производилась операция, по приказу генерала гвардейские музыканты пели русские песни, чтобы никто не слышал его стонов. «Вскоре приносят несколько знамен, отбитых у неприятеля. При виде сих трофеев взоры героя блистают огнем радости. "По крайней мере, умру непобежденным", - восклицает он голосом сердечного торжества». Лекарь Кучковский, «коего физиономия понравилась графу», успешно справился со сложнейшей операцией, сохранившей жизнь прославленному военачальнику. Во время перевязки к «изувеченному вождю» русской армии подъехал флигель-адъютант князь А. С. Меншиков и «с видом жалостливого участия» обратился к нему с вопросом: «Как вы себя чувствуете?» Граф Остерман отвечал весьма спокойно: «Voyez, prince, quelle m"esaventure m"est arriv"ee! Donnez moi une prise!..» (Посмотрите, князь, какая случилась со мной неприятность! Дайте мне табаку понюхать!..) Через две недели после этой «неприятности» Остерман-Толстой к изумлению присутствующих явился в храм на богослужение. Сражаться и жить в «социокультурном контексте» той эпохи было, безусловно, непросто.
Для того чтобы русские хирурги, обычно их называли «операторами», могли добиться подобных видимых успехов в своем ремесле, Я. И. Вилье совершил поистине доброе дело: в 1808 году он за свой счет выписал из Великобритании образцы хирургических инструментов и наладил их производство в России. Но наши герои страдали не только от ран, полученных на поле чести, они были подвержены многим заболеваниям, которым люди подвержены до сих пор, с той разницей, что возможностей для лечения их недугов было значительно меньше. Каждый из нас знает, что, почувствовав признаки простуды, стоит обратиться в аптеку, чтобы приобрести соответствующее лекарство, да и не одно. Чем лечились русские офицеры, если болезнь заставала их врасплох? А. Чичерин записал в дневнике: «Мог ли я предвидеть, что эта неприятная простуда доведет меня до края могилы и что я со своим хваленым здоровьем покорюсь, как и прочие, жестокому велению судьбы, приговорившей всю армию к тому же. Чтобы прогнать болезнь, я поставил ноги в горячую воду и выпил стакан пунша - это меня совсем доконало. Виллие, посланный его величеством, пришел в ужас как от моего состояния, так и от моего жилья. Мне было уже очень скверно. Воспаление в горле душило меня, я горел в жару и бредил без конца. Много раз мне виделось одно и то же, и так врезалось в память, что, уже придя в себя, я все верил тем видениям и думал, что я действительно стал адъютантом Е[го] В[еличества]. Я так глубоко был убежден в этом, что, когда Кашкаров, которому я в бреду рассказывал, что у меня шесть верховых лошадей и восемь упряжных, имение под Петербургом стоимостью в 80 тысяч рублей, что я помог отцу и матери и задарил шалями Марию, - когда Кашкаров не верил мне, я решил писать генералу, прося его справиться у Государя, назначен я адъютантом или нет» . В не менее тягостное положение болезнь повергла офицера Владимирского ополчения И. М. Благовещенского: «…Ко мне идет майор, командующий полком, узнает о квартире, в которую входит, и видит меня, что я лежу в постели в больном виде. На столе были поставлены близ меня скляночки в виде лекарств, медикаментов, как то: с квасом, пивом, огуречным рассолом и что можно было найти…» Окончательному излечению способствовал случай: «На мое неожиданное щастие, Бог послал в это время, как мы в Вязьме, директора всех гошпиталей. И лишь появился в комнате полковника, то он просит его посмотреть меня и сколько можно помочь в болезненном положении. Вот он, пришед ко мне, внятно осматривая, проговорил несколько приятно и тотчас написал рецепт и при себе приказал за лекарствами послать в аптеку. Исполнено было скоро - принесено довольно порошков и склянку большую микстуры, все это чтоб в два дня употребить, как на ассигнатурке значится» .
По-видимому, настоящим бедствием для русских воинов были так называемые желудочно-кишечные заболевания, с которыми они «познакомились» во время Русско-турецкой войны 1806 - 1812 годов. Так, Я. О. Отрощенко вспоминал: «В августе месяце умножилось число больных, как полагали доктора, от фруктов; я тоже получил перемежающуюся лихорадку и отправлен в госпиталь, устроенный в камышовых сараях при селении Сербешты. Офицеры были расположены в молдаванских хатах, а нижние чины в сараях. Людей умирало так много, что трупы вывозили на возах для погребения. Со мною случилось здесь странное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак не мог себя переуверить в том; приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову и рассудок мой воротился. Я также выписался из госпиталя, хотя лихорадка еще не совсем прошла: все средства медицины не пособили мне, но один грек излечил меня, как догадываюсь сулемой, потому что он старался закрываться от меня, когда приготовлял лекарства к приему, однако же я подсмотрел, что он сыпал в чашку белый порошок» .
Причину массовых эпидемий подробно разъяснил M. М. Петров: « Чрез прелесть эту, особливо разнородных виноградов и абрикосов, при употреблении на них масляного плода зерен грецких орехов, в свежести их лакомых на вкус, а при холодности тамошних долгих ночей, по обычному всех вечернему купанью, решительно смертельных последствиями мучительных лихорадок и кровавого поноса. Начальникам бывавших там армий нашего авосьного народа предстоит дело трудное - вразумлять своих воинов о сохранении здоровья, убедя их предписаниями, что там надлежит предохранять жизнь воздержанием от еды с трех часов пополудни всяких фруктов, ибо с утра и за полдень несколько такое употребление ничуть не вредно и даже полезно, по своему легкому питанию, поелику сырость фруктовая выжимается чрез испарину от жаров дневных, доходящих там часто до 40 градусов, а к ночи вредно, потому что в той стране с закатом солнца вдруг, почти без зари, обнимает ночь холодная, поглощающая всю знойность дня, оставляя в воздухе тепла не более 3 градусов. Казалось бы, нетрудно понять, что при таком изменении теплоты на холод не следует пред вечером задолго ни фруктов есть, ни купаться, поевши их, а только вкушать что-нибудь зажаренное, натертое солью, перцем, или сухарей с кашицею. Но праматерь наша Ева передала нам вполне невоздержность свою в обольщении благовидностию плодов вопреки рассудка и наказов, и мы, вернопослушные ее праправнучата, всех чинов без изъятия, страдаем при уповании на авось. А какую там лихорадку вытерпел, то и теперь вспомнить страшно, а все от вечерней еды фруктов и ночного купания и авось» . Однако дело было не только в «ночном купании». « Во всех колодезях вода была испорчена турками и имела несносный смрад. Жар был нестерпим, и мы, изнемогая от жажды, пили эту воду, но и той недостаточно было. Ко мне явилась лихорадка с большим ожесточением и поносом», - сообщал Я. О. Отрощенко . В качестве профилактики желудочных расстройств нередко употреблялось хлебное вино с перцем.
Судя по документам, письмам и воспоминаниям офицеров - участников Отечественной войны 1812 года, сражавшихся с турками на Дунае, все они переболели «перемежающейся лихорадкой», которая не щадила ни нижних чинов, ни их начальников. Действенное средство против этого заболевания, очевидно, было обнаружено опытным путем: кофе с хреном. Кофе - дорогостоящий колониальный продукт, почти не доступный столичным жителям в связи с «континентальной блокадой» Англии по условиям Тильзитского соглашения, в Дунайской армии приобретался сравнительно «легко», так же как и разные другие дорогостоящие «редкости»: после победы под Рущуком в турецком лагере было «найдено много кофею, сарацинского пшена, разного драгоценного оружия, розового масла, опиуму, коровьего масла и варенья…» .
Бесценные трофеи («святая добычь», по выражению А. В. Суворова), судя по воспоминаниям О. Я. Отрощенко, явно заслуживали лучшего применения: «Однажды, когда проглянуло солнышко, я, вышедши из землянки и ходя вокруг моего каре, смотрел, как солдаты чистили свои ружья, починяли сапоги и одежду. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидел, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали им уже сапоги и также ружейные замки. "Что это у вас такое", - спросил я. - "Какое-то масло, ваше высокоблагородие, мы клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо". Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще, по крайней мере, на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: "Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не поддается проклятый". Это был кофе; я сказал им: "Это только годится туркам есть, а солдатам нейдет". К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи» . Не менее колоритным является и свидетельство M. М. Петрова, как и большинство его соратников, во время боевых действий при Батине еле-еле «пермогавшегося» от поистине всеобщего заболевания: «Лежа на бугорке поляны перед потерями неприятеля, я смотрел и сквозь немощь мою веселился, видя, как наши ребята, победители, разбирали турецкие пожитки, наполнявшие огромный лагерь этой долины, и тащили, не зная обращения, навьюченных верблюдов, бормотавших на них и обдававших с головы до ног нежеланных ими новых карнаков соплями, единственным орудием их гнева. В то же время иные разночинцы армии, промышленники вольного рынка и маркитанты полков, овладев котлами и провизиею неприятеля, принялись варить кашу, всыпая в навьюченные над огнем котлы сарацинского пшена, изюму и думая, "что тоже к тому гоже", валили туда ливанского кофею, в шелушице у азиатцев держимого, принимая его за бобы "иносветные", варя же и пробуя жевать, фуркали из рта, говоря: "Эй! Да это ажио крепко в варке!"»
Следует заметить, что кофе был не только крепким бодрящим напитком, к которому многие офицеры пристрастились во время военных действий на Дунае. В те годы кофейную гущу, называемую «подонками», использовали не только для гадания, но и как эффективное средство для отбеливания зубов; с этой целью ее высушивали, а затем тщательно натирали ею зубы. Но это был, по современным понятиям, «эксклюзивный» вариант личной гигиены: кофе далеко не всегда и не у всех был под рукой. Правомерно задаться вопросами: что использовалось в те времена, не знавшие «высоких технологий», в качестве зубной пасты или мыла и существовали ли они вообще? Эти бытовые подробности наши герои обходят молчанием в своих письмах, дневниках и воспоминаниях, что выглядит совершенно естественным, потому что и в наши дни кто бы стал сообщать своему оппоненту по переписке, из чего состоят столь необходимые человеку предметы? Для того чтобы «зубы были чисты и белы», в уголь сжигался кусок мякиша из ячневого хлеба, смешивался с солью и медом, образуя зубной порошок. Для «домашнего употребления» мыло варилось «без дальней трудности и издержек» из костей, огарков от сальных свечей и всего того, «что остается на блюдах и тарелках жирного или масляного и тому подобного» вперемешку с золой и негашеной известью. Чтобы произвести «мыло хорошее для умывания», требовалось соскоблить полфунта мыла, о котором говорилось выше. В эту мыльную стружку наливалась вода, добавлялись толченый миндаль, разведенный в молоке, розовая вода, «лягушачий клек» и «винный камень». Все это тщательно перемешивалось, варилось на огне до кипения, заливалось «в четверо-угольные коробочки и ящички», где после «застывания изрезалось в печатки произвольной величины» . В результате получалось мыло с ароматом розы и миндаля.
Как на войне, да и в мирные дни, пытались сбить жар, противостоять укусам бешеных животных, как лечили переломы костей? В качестве жаропонижающего средства употреблялись «питье воды с лимонным соком и трение тела уксусом». Головную болезнь, «произшедшую от солнечного зноя», снимали с помощью «муравейного уксуса», добывавшегося довольно непростым путем в мае - июне: «в средину муравейной кучи» ставился глиняный горшок, дно которого следовало смазать медом, «муравьи в превеликом количестве собирались в оный», после чего их обдавали кипятком, «от чего в ту ж самую минуту сделается спиртуозный уксус»; им мочили платок и привязывали к голове. При «угрызении бешеным животным» действия были не менее сложными: прежде всего рану промывали собственной мочой, потом натирали рассолом, «распустив в полукружке воды горсть соли, дабы сильнее шла кровь из раны, а с нею и самый яд выходил бы вон». Но надежнее считалось «прижечь раскаленным железом оное место так, чтоб оно покрылось все пузырем, который, вытягивая материю, высосет вместе с нею и яд бешеной собаки» . Вообще наши герои жили и воевали в «доброе, старое время», когда от «ипохондрических, истерических и меланхолических припадков» лечились магнитами, повешенными на грудь, и зверобойным маслом, а кровотечение из носу унимали, сжигая перья куропатки.
В военное время неотложная помощь воинам, пострадавшим от ран и болезней, оказывалась на основании «Положения для временных военных госпиталей при большой действующей армии», принятого 27 января 1812 года. Согласно этому документу, в «аптекарских магазинах» запас перевязочных средств - бинтов из холста и корпии, используемой вместо ваты и получаемой путем распускания холста (отсюда выражение «щипать корпию») - был рассчитан примерно на одну пятую часть армии. С 1811 года Петербургский завод медицинских инструментов стал выпускать для армии лубки нового, западного образца: «…шины из лубковых узеньких дощечек, вшитых между холстинок и длинные узкие мешки, песком наполненные» . Больных предполагалось иметь примерно одну десятую часть армии. Из «расчетных» 15 тысяч раненых три тысячи считались «тяжелыми», и для их эвакуации планировалось заготовить одну тысячу телег. Однако эти расчеты были опровергнуты суровой действительностью: раненых и «заразительных больных» оказалось гораздо больше.
В ходе военных действий первая помощь раненым оказывалась на перевязочных пунктах, которые, как правило, располагались поблизости от командного пункта, чтобы главнокомандующий в ходе битвы мог посещать тех, кто заплатил отечеству «дань кровью». А. П. Бутенев вспоминал обстоятельства боя под Салтановкой: «Мы оставались тут почти целый день, поджидая возвращения Раевского. Он наконец вернулся со своими войсками, сопровождаемый множеством раненых и умирающих, которых несли на носилках, на пушечных подставках, на руках товарищей. Некоторых офицеров, тяжело раненных и истекавших кровью, видел я на лошадях, в полулежачем положении; одною рукою они держались за повода, а другая, пронизанная пулею, висела в бездействии. Перевязки делались в двух развалившихся хижинах, почти насупротив толпы офицеров и генералов, посреди которых сидел князь Багратион, по временам приподнимавшийся, чтобы поговорить с ранеными и сказать им слово утешения и ободрения. Мне предлагали пойти посмотреть на хирургические отсечения и операции, которые производились над этими доблестными жертвами войны; но, признаюсь, у меня недостало на то духу» .
На перевязочных пунктах производились рассечение раны, удаление осколков гранаты, пуль, иных инородных тел, после чего делалась сама перевязка. Принято считать, что в те времена полостные операции не производились, однако известно, что генерал-майору К. Ф. Казачковскому раненному картечной пулей в живот в сражении при Лютцене, врачи сумели спасти жизнь. Еще более удивительный случай произошел в кампанию 1807 года с полковником М. Д. Балком: в бою при Гейльсберге картечная пуля сорвала ему часть черепа. Однако врач заменил ему часть черепной кости серебряной пластинкой, и в 1812 году уже в чине генерала Балк принимал деятельное участие в боевых действиях. Ампутация конечностей производилась, как правило, «при раздроблении костей и разрыве мягких тканей». В тех случаях, когда раненому могли обеспечить покой и отдых, хирурги не спешили «отнимать конечность». Но в таких случаях, как сражения под Смоленском или, в особенности, при Бородине, за которыми следовало отступление, и за значительным количеством раненых, в том числе офицеров, некому было наблюдать и заботиться, «операторы» выбирали радикальное средство. В качестве примеров состояния раненых после «кровопролитной битвы Бородинской» и их количества можно привести множество воспоминаний.
Так, 15-летний Д. В. Душенкевич, получивший сравнительно легкую рану в «Шевардинском деле» 24 августа, за день до генеральной битвы при Бородине, вспоминал: «Бригадный наш командир полковник Княжнин, шеф полка Лошкарев и прочие все штаб-офицеры до одного в нашем (Симбирском) полку переранены жестоко, из обер-офицеров только трое осталось невредимых, прочие, кто убит, кто ранен; я также в сем последнем действии, благодаря Всевышнего! на земле родной удостоен пролить кровь. Нас повели, некоторых понесли в руки медикам, и ночью же отправлены транспорты раненых в Москву.
Картина ночи и путь до Москвы представляли однообразное общее уныние, подобное невольному ропоту, рождающемуся при виде длинных обозов и перевязок множества, не только раненых, даже до уничтожения переуродованных людей; нельзя не удивляться, в каком порядке раненые транспортируемы и удовлетворяемы были всем. На третий день нас доставили в опустевшую Москву, чрез всю столицу провезли и поместили во Вдовьем доме, где всего в изобилии, даже в излишестве заготовлено, что бы кто из раненых ни пожелал» . Узнав об оставлении Москвы неприятелю, Д. В. Душенкевич с костылем вернулся в строй, долечив свою раненую ногу в Тарутинском лагере.
На случай отступления в те годы принято было «вверять тяжелораненых воинов великодушию победителя». В этом случае на аванпостах армии оставался офицер с письмом, предназначавшимся главнокомандующему неприятельской армией. М. И. Кутузов обратился с письмом к императору Наполеону с просьбой позаботиться об оставшихся в Москве русских воинах, пострадавших в «большом сражении». Впрочем, это была общепринятая формальность. Наполеон сам был солдатом, и по его словам: «после битвы не было врагов, а было только страдающее человечество».
В числе «страдальцев», переданных с рук на руки французским медикам, был поручик гвардейской артиллерии А. С. Норов, поведавший в записках историю своего ранения: «Одновременно с обеих сторон разразились выстрелы. Неминуемая сумятица не могла не произойти временно на батарее при столь близкой посылке картечи: несколько людей и лошадей выбыло из строя; но, имея дело с кавалериею, у нас уже были приготовлены картузы для следующего выстрела, и я успел еще послать картечь из моего флангового орудия. Это был мой последний салют неприятелю… я вдруг почувствовал электрическое сотрясение, упал возле орудия и увидел, что моя левая нога раздроблена вдребезги… Я еще видел, как наши кирасиры, бывшие дотоле бездействующими зрителями, понеслись в атаку В это время мой товарищ, прапорщик Дивов наткнулся на меня в ту минуту, как Каменецкий точил свой инструмент, чтобы приняться за меня. Дивов спросил меня: не может ли он мне чем помочь, и оказал мне большую услугу. Я попросил его, не может ли он мне достать льду и положить в рот, иссохший от жару; к удивлению моему, он исполнил мое желание. Он же нашел и прислал мне двух моих людей. Даже и тут ядра тревожили иногда усиленные работы наших медиков.
Когда я был ранен (это было уже в третьем часу), повозки для раненых все еще были в изобилии: я видел целые ряды телег, устланных соломою. Некоторые из тяжелораненых тут же умирали и тут же предавались земле, и трогательно было видеть заботу, с которою раненые же солдаты и ратники ломали сучки кустов и, связывая их накрест, ставили на могилу. Один из французских повествователей той эпохи, заметив эти могилы, говорит, что наша армия отступала к Москве в таком порядке, что ни одного колеса не было нами оставлено на пути.
Моя телега въехала в длинный ряд других телег, тянувшихся с ноги на ногу к Можайску. В ушах моих во всё время пути, хотя мы были уже далеко от поля сражения, все еще раздавался пушечный гром и слышался свист ядер; мы прибыли в сумерки к Можайску; улицы были запружены подводами. По особенному счастию, мои люди увидали возле одного дома людей моих товарищей, раненных прежде меня, тут остановили мою телегу и меня внесли в комнату. "Кто это ещё?" - сказал слабый голос лежавшего на соломенной постилке, - и я узнал моего друга полковника Таубе (Роман Максимович, 2-я батарейная рота Лейб-гвардии артиллерийской бригады). Меня положили возле него. "Хотя бы нас стариков…" - прошептал он, протягивая мне руку. У него была отнята нога выше колена. В приподнявшемся по другую сторону узнал я подпоручика Баранова, у которого раздроблена была рука осколком гранаты. Недолго мы могли беседовать; мы все были в жару; всем нам нужно было успокоение, которым мы недолго могли пользоваться: нас торопили отправить из Можайска, и на заре мы уже выехали. Благодаря Таубе меня положили вместе с ним в лазаретную карету; иначе меня повезли бы по моему чину опять в телеге. "Не спасла меня твоя сабля, - говорил мне Таубе, - да и тебя твой ятаган".
Отраден мне был путь при таком товарище. При въезде в Москву нас обступил народ; женщины бросали нам деньги в карету, и мы с трудом могли их убедить, что деньги нам не нужны, тем более что тяжелые пятаки могли нас зашибить. Баранов, который не отставал от нас, предлагал нам остановиться в доме его отца, сенатора. У Таубе был в Москве какой-то родственник, а я согласился на предложение Баранова. Таубе завёз меня к нему, и тут мы расстались с ним навеки. Он отправился, как я узнал после, в Ярославль, где вскоре умер. Гостеприимный дом Баранова был совершенно пуст: мы пробыли здесь два дня; трудно было иметь медицинские пособия, и меня перевезли по тяжести раны в Голицынскую больницу. Тут прислала узнать обо мне не выехавшая еще из Москвы моя добрая знакомая княгиня Дарья Николаевна Лопухина, у которой я жил в Петербурге. Не знаю, как она проведала обо мне; она предлагала взять меня с собою и писала, что будет ожидать меня за Ярославскою заставою; при ней были две дочери; но я не мог решиться обременить ее собою» .
Из рассказа А. С. Норова мы видим, что офицеры-гвардейцы, принадлежавшие к тому же к высшему столичному обществу, с одной стороны, могли обеспечить себе лучшие условия содержания и более тщательный уход, нежели армейские офицеры; с другой стороны, даже их эвакуация с поля битвы осуществлялась «по ранжиру»: поручик Норов был обречен проделать весь путь от Бородина до Москвы в тряской телеге, если бы не любезность его старшего друга полковника Таубе; кстати, именно так добрался до своего дома сын сенатора Баранова, невзирая на наличие «людей» - крепостной прислуги.
2 сентября в Москву вступили войска Наполеона. А. С. Норов продолжает свой рассказ: «В мою комнату вошел со свитою некто почтенных уже лет, в генеральском мундире, остриженный спереди, как стриглись прежде наши кучера, прямо под гребенку, но со спущенными до плеч волосами. Это был барон Ларрей, знаменитый генерал-штаб-доктор Наполеона, находившийся при армии со времени Итальянской и Египетской кампаний. Он подошел прямо ко мне. Вот наш разговор (беседа между врачом и пациентом, переданная в русском переводе, происходила, естественно, на французском языке). - "В каком войске вы служите?" - "Я офицер гвардейской артиллерии". - "Вы ранены в большом сражении?" - "Да, генерал". - "Когда вам делали первую перевязку?" - "Ее вовсе не делали". - "Как, со времени большого сражения?" - "Да, генерал". Он пожал плечами и, обернувшись, сказал что-то стоявшему возле него доктору, взял стул, сел подле моей кровати и начал расспрашивать окружающих о положении, в каком найден госпиталь. Минут через десять внесли ящик с инструментами, тазы, рукомойники, бинты, корпию и проч. Ларрей встал, сбросил с себя свой мундир, засучил рукава и, приближаясь ко мне, сказал: "Ну, молодой человек, я займусь вами". Около получаса провозился он со мною и несколько помучил меня - на ране был уже антонов огонь, - сам перевязал меня и, передавая помогавшему ему доктору, сказал: "Господин Бофис, вы мне будете отвечать за жизнь этого молодого человека". Я был тронут до глубины души и высказал все, что мог нежного этому великодушному человеку. Недаром Наполеон прозвал его: le vertueux Larrey (виртуозный Ларрей). Доктор Beaufils , которому я был поручен Ларреем, был уже человек лет под сорок, плешивый, самой доброй наружности и весьма живой во всех своих приемах. Еще через день приехал посетить госпиталь граф Лористон, бывший у нас послом в Петербурге и которого я так недавно видел в кругу нашего столичного общества; он поместился после пожара, поглотившего Москву, в уцелевшем роскошном доме графини Орловой-Чесменской близ нашего Голицынского госпиталя. Он оказал мне самое теплое участие, заявив, чтоб я относился к нему во всем, что будет мне нужно, и обещал присылать наведываться обо мне, что и исполнил, а в тот же день прислал мне миску с бульоном. Вскоре кровати моей комнаты начали наполняться. Первый, которого принесли, был адъютант Барклая, Клингер (сын того самого строгого директора 1-го кадетского корпуса. - Л. И. ), у которого была отнята нога выше колена: он был в бреду; за ним принесли Тимофеева, капитана одного из егерских полков армии князя Багратиона, простреленного насквозь; потом поручика Обольянинова, батальонного адъютанта Преображенского полка; затем майора Орденского кирасирского полка полковника Вульфа; у обоих было отнято по ноге. Вульфу делал операцию барон Ларрей.
До этой поры сюда помещали одних русских. В следующий день поступил к нам адъютант французского дивизионного кавалерийского генерала Пажоля драгунский капитан d"Aubanton , тяжело раненный осколком гранаты в бок и в руку. Мы с ним скоро обменялись с наших кроватей дружелюбными словами; это был человек серьезный, которого беседа не была пустословная. Меж тем все комнаты госпиталя переполнились ранеными. Таким образом, наша судьба казалась на это время несколько обеспеченною среди терзаемых со всех сторон грабителями остатков обгорелой Москвы» . Действительно, этот госпиталь был «островом милосердия», на котором пребывали «мученики славы» обеих армий, причем русским раненым не воспрещалось общение с внешним миром. «Между тем я был неожиданно удивлен появлением в один день пред собою крестьянина Дмитрия Семенова, поместья моих родителей села Екимца, который вызвался проникнуть в Москву и доставить им известие обо мне. Неописанно утешенный, я написал с ним несколько строк, которые прошли через французскую цензуру и благополучно достигли до моих обрадованных родителей», - сообщал А. С. Норов. Обоюдное участие продолжалось и в тот период, когда неприятель вынужден был покинуть Москву, и спустя месяц русские и французы поменялись ролями: « Целая процессия французов в халатах и на костылях, кто только мог сойти с кровати, явилась перед нами. Один из них вышел вперед и сказал нам: "Господа, до сих пор вы были нашими пленниками, скоро мы будем вашими. Вам, конечно, нельзя на нас пожаловаться, позвольте же надеяться на взаимство". Действительно, неприятельским воинам оставалось уповать только на "взаимство" русских офицеров, потому что обгоревшие, разграбленные, с оскверненными церквами, взорванным перед отступлением по приказу Наполеона Кремлем, развалины Москвы не способствовали пробуждению сочувствия в русских войсках, вступивших в город. В Москву вступили казаки генерал-майора Иловайского 12-го. Мы заявили, что в соседней палате лежат раненые французы, что мы были более месяца у них в плену, что они нас лечили и сберегли, что за это нельзя уже их обижать, что лежачего не бьют и тому подобное… Урядник слушал меня, закинув руки за спину. "Это все правда, ваше благородие; да посмотрите-ка, что они душегубцы наделали! Истинно поганцы, ваше благородие!" - "Так, так, ребята, да все-таки храбрый русский солдат лежачего не бьет, и мы от вас требуем - не обижать!" - "Да слушаем, ваше благородие, слушаем!.."»
Многие офицеры с завидной долей оптимизма повествовали об обстоятельствах своего ранения, философски полагая, что войны без жертв не бывает. Иным тоном повествования отличаются записки H. Н. Муравьева, одного из троих братьев, участвовавших в Бородинском сражении. Николай Муравьев, находившийся в свите М. Б. Барклая де Толли, в самый разгар битвы получил известие о ранении своего младшего брата Михаила, состоявшего при Л. Л. Беннигсене. Он повел себя явно «не типично» для героев того времени, отпросившись у начальника на поиски брата: как правило, родственников и друзей разыскивали после «дела». Почему Барклай дал свое согласие на просьбу: потому ли, что Муравьев был его родственником, или потому, что почувствовал, что этот офицер бесполезен в том состоянии, в которое повергло его ранение брата? «Перед самою атакою кавалерии я находился в селении Горках, как прискакал с левого фланга с каким-то известием к главнокомандующему от Семеновского полка князь Голицын Рыжий, состоявший адъютантом при Беннигсене. Бурка его была в крови; обратившись к нам, он сказал, что это кровь брата нашего Михайлы, которого сбило с лошади ядром. Голицын не знал только, жив ли брат остался или нет. Не выражу того чувства, которое поразило нас при сем ужасном зрелище и вести. Мы поскакали с Александром по разным дорогам, и я скоро потерял его из виду. Встревоженный участью брата, который представлялся мне стенающим среди убитых, я мало обращал внимания на ядра, которые летели, как пули; осматривал груды мертвых и раненых, спрашивал всех, но не нашел брата и ничего не мог о нем узнать» . Поиски продолжались несколько дней: «27 августа брат Александр до рассвета снова отправился на поле сражения отыскивать тело Михайлы. Он проехал за нашу цепь, объездил все поле и не нашел брата. Мы полагали брата Михайлу убитым; но, в надежде еще найти его, Александр на всякий случай выпросил у Вистицкого позволение ехать в Москву, чтобы искать брата по дороге между множеством раненых, которых везли на подводах.
28-го рано поутру мы снова отправились отыскивать брата Михайлу; ехали медленно, среди множества раненых и всех расспрашивали, описывая им приметы брата, но ничего не узнали. Наконец подпоручик Хомутов, который мимо ехал, сказал нам, что он 27-го числа видел брата Михайлу жестоко раненным на телеге, которую вез московский ратник, и что брат поручил ему известить нас о себе. Равнодушие товарища Хомутова, не известившего нас о том накануне, заслуживало всякого порицания, и он не миновал упреков наших. Мы продолжали путь свой и разыскания. Проезжая через селения, один из нас заходил во все избы по правой стороне улицы, а другой по левой; но в этот день мы его не нашли.
Ввечеру Александр рассказал мне случившееся с Михайлой, по его собственным словам. Во время Бородинского сражения Михайла находился при начальнике Главного штаба Беннигсене на Раевского батарее, в самом сильном огне. Неприятельское ядро ударило лошадь его в грудь и, пронзив ее насквозь, задело брата по левой ляжке, так, что сорвало все мясо с повреждением мышц и оголило кость; судя по обширности раны, ядро, казалось, было 12-фунтовое. Брату был тогда 16-й год от роду. Михайлу отнесли сажени на две в сторону, где он, неизвестно сколько времени, пролежал в беспамятстве. Он не помнил, как его ядром ударило, но, пришедши в память, увидел себя лежащим среди убитых. Не подозревая себя раненым, он сначала не мог сообразить, что случилось с ним и с его лошадью, лежавшею в нескольких шагах от него. Михайла хотел встать, но едва он приподнялся, как упал и, почувствовав тогда сильную боль, увидел свою рану, кровь и разлетевшуюся вдребезги шпагу свою. Хотя он очень ослаб, но имел еще довольно силы, чтобы приподняться и просить стоявшего подле него Беннигсена, чтобы его вынесли с поля сражения. Беннигсен приказал вынести раненого, что было исполнено четырьмя рядовыми, положившими его на свои шинели; когда же они вынесли его из огня, то положили на землю. Брат дал им червонец и просил их не оставлять его, но трое из них ушли, оставя ружья, а четвертый, отыскав подводу без лошади, взвалил его на телегу, сам взявшись за оглобли, вывез его на большую дорогу и ушел, оставя ружье свое на телеге. Михайла просил мимо ехавшего лекаря, чтобы он его перевязал, но лекарь сначала не обращал на него внимания; когда же брат сказал, что он адъютант Беннигсена, то лекарь взял тряпку и завязал ему ногу просто узлом. Тут пришел к брату какой-то раненый гренадерский поручик, хмельной, и, сев ему на ногу, стал рассказывать о подвигах своего полка. Михайла просил его отслониться, но поручик ничего слышать не хотел, уверяя, что он такое же право имеет на телегу, при сем заставил его выпить водки за здоровье своего полка, отчего брат опьянел. Такое положение на большой дороге было очень неприятно. Мимо брата провезли другую телегу с ранеными солдатами; кто-то из сострадания привязал оглобли братниной телеги к первой, и она потащилась потихоньку в Можайск. Брат был так слаб и пьян, что его провезли мимо людей наших, и он не имел силы сказать слова, чтобы остановили его телегу. Таким образом привезли его в Можайск, где сняли с телеги, положили на улице и бросили одного среди умирающих. Сколько раз ожидал он быть задавленным артиллериею или повозками. Ввечеру московский ратник перенес его в избу и, подложив ему пук соломы в изголовье, также ушел. Тут уверился Михайла, что смерть его неизбежна. Он не мог двигаться и пролежал таким образом всю ночь один. В избу его заглядывали многие, но, видя раненого, уходили и запирали дверь, дабы не слышать просьбы о помощи. Участь многих раненых! Нечаянным образом зашел в эту избу лейб-гвардии казачьего полка урядник Андрианов, который служил при штабе великого князя. Он узнал брата и принес несколько яиц всмятку, которые Михайла съел. Андрианов, уходя, написал мелом по просьбе брата на воротах: Муравьев 5-й. Ночь была холодная; платье же на нем изорвано от ядра. 27-го поутру войска наши уже отступали через Можайск, и надежды к спасению, казалось, никакой более не оставалось, как неожиданный случай вывел брата из сего положения. Когда до Бородинского сражения Александр состоял в арьергарде при Коновницыне, товарищем с ним находился квартирмейстерской части подпоручик Юнг, который пред сражением заболел и уехал в Можайск. Увидя подпись на воротах, он вошёл в избу и нашёл Михайлу которого он прежде не знал; не менее того, долг сослуживца вызвал его на помощь. Юнг отыскал подводу с проводником и, положив брата на телегу, отправил её в Москву. К счастию, случилось, что проводник был из деревни Лукина, князя Урусова. Крестьянин приложил всё старание свое, чтобы облегчить положение знакомого ему барина, и довёз его до 30-й версты, не доезжая Москвы. Михайла просил везде надписывать его имя на избах, в которых он останавливался, дабы мы могли его найти. Александр его и нашёл по этой надписи.
Спустя несколько лет после сего Михайла приезжал в отпуск к отцу в деревню и отыскивал лукинского крестьянина, чтобы его наградить, но его не было в деревне: он с того времени не возвращался и никакого слуха о нем не было; вероятно, что он погиб во время войны в числе многих ратников, не возвратившихся в дома свои» . Далее рассказчик сообщил: «Я слышал от Михайлы, что в ту минуту, когда он, лежа на поле сражения, опомнился среди мертвых, он утешался мыслию о приобретенном праве оставить армию, размышляя, что если ему суждено умереть от раны, то смерть сия предпочтительна тому, что он мог ожидать от усталости и изнеможения, ибо он давно уже перемогался. Труды его и переносимые нужды становились свыше сил. Если же ему предстояло выздоровление, то он все-таки предпочитал страдания от раны тем, которые он должен был через силы переносить по службе. По сему можно судить о тогдашнем положении нашем!» Заметим, что в подобном положении находилось большинство офицеров русской армии, безропотно переносивших испытания безденежьем, голодом, холодом, усталостью, болезнями, ранами… Впрочем, может быть, воспоминания H. Н. Муравьева были омрачены малоприятным недугом, от которого малосостоятельным офицерам было трудно избавиться: «У меня снова открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах. Ноги мои зудели, и я их расчесывал, отчего показались язвы, с коими я, однако, отслужил всю кампанию до обратного занятия нами в конце зимы Вильны, где, не будучи почти в силах стоять на ногах, слег» .
Сколько людей, столько и характеров. H. Е. Митаревский, которого также не миновала судьба быть раненным при Бородине, не умолчал об обиде, нанесенной ему после битвы: «Когда мы проезжали какое-то селение, то нагнал нас наш дивизионный генерал Капцевич с адъютантом. Поравнявшись с нами, генерал обратился к адъютанту и сказал: "Это наши, такой-то роты?" - "Точно так, - отвечал адъютант, - один из них немного поколот, а другой так… только контужен". Это было сказано таким тоном, что при моем болезненном состоянии показалось мне чрезвычайно горько. Я подумал, что уж лучше бы мне оторвало совсем ногу, тогда, по крайней мере, возбудил бы к себе сострадание. {30} . Однако он вспоминал о своей первой военной кампании совершенно иначе: «Никогда, кажется, не спал я так приятно и никогда не был так здоров, как в двенадцатом году. Сухари, крупа, говядина и редька были нашею ежедневною пищею от самого Смоленска, а эта пища самая здоровая и необременительная; прочих роскошей мы не знали; чай пили очень редко. Редко имели свежий ржаной хлеб, а белый и того реже. Но без табаку не могли обойтись. Курили табак самый простой, малороссийский, и за тот с радостию платили маркитантам по восьмидесяти копеек ассигнациями, что по тогдашнему жалованью много для нас значило. Молодость, беспрестанное движение на свежем воздухе, веселое общество, душевное спокойствие, какая-то особенная снисходительность высшего начальства к нам, молодым офицерам, что переходило и на низших начальников - все это располагало нас к приятному настроению» .
В одном из медицинских изданий Бородинское сражение названо «исключительным случаем массового травматизма». Действительно, потери русской армии составили около 50 тысяч офицеров и солдат, из которых не менее 30 тысяч получили ранения разной степени тяжести. Раненых выносили с поля боя «специально наряженные команды» нижних чинов, которым помогали ополченцы, находившиеся за линией резервов. Там они должны были принимать раненых и отправлять их далее по Новой Смоленской дороге к Москве. Однако многие из них оказались «под тучей ядер и картечи». По выражению Ф. Н. Глинки, ополченцы «втеснялись в толпу вооруженных», чтобы уносить раненых «из-под пуль, из-под копыт и колес конницы и артиллерии» . Один из них вспоминал: «Здесь нам дали самую неприятную на свете должность, которую я бы лучше хотел променять на потеряние самой моей жизни. Она состояла в том, чтобы брать с места сражения тяжелораненых и отправлять их далее» . Но среди ополченцев были и такие, кто выпавшую на их долю страшную участь - выносить с поля боя израненных и изувеченных людей - воспринимали как Божье благословение. Об одном таком случае командир 5-го гвардейского корпуса генерал-лейтенант Н. И. Лавров доложил в рапорте М. И. Кутузову 7 декабря 1812 года, в самом конце войны: «1-го гранадерского батальона капитан Букарев во время бывшего сражения 26 августа при селе Бородине находился в деле со 2-ю гранодерскою ротою на левом фланге гвардии для прикрытия батареи. Когда убиты были бригадной командир полковник князь Кантакузин и батальонный командир подполковник Албрехт, капитан Букарев, оставаясь старшим, заступил место подполковника Албрехта и при наступлении неприятельской колонны, состоящей в пехоте и кавалерии, одобряя воинских чинов в батальоне, отразил неприятеля штыками и обратил в бегство, занял его позицию, где и получил сперва контузию картечью в правой бок. А после того ранен в правое плечо ниже сустава навылет ружейною пулею, чрез что, ослабев совершенно силами, оставался на месте сражения лежащим между убитыми телами до тех пор, пока угодно было Провидению к спасению жизни послать 60-летнего отца его прапорщика Букарева, служащего в ополчении, посредством коего по перевязке ран отвезен в Москву, получив выздоровление, явился на службу. Вашей Светлости, представя о сем офицере, израненном и храбром, осмеливаюсь покорнейше просить наградить его» . Так, в одном документе соединились воедино доблесть и мужество офицера, принявшего на себя команду там, где не оставалось уже старших по чину, и святая родительская любовь, послужившая путеводной звездой отцу, чудом спасшему сына.
По-видимому, впечатления от Бородинской битвы не для всех остались «без последствий». Ф. Я. Миркович вспоминал о душевном состоянии корнета Кавалергардского полка, племяннике М. Б. Барклая де Толли фон Смиттене: « Мой товарищ, который до того не обращал никакого внимания на наш разговор, вдруг пустился в такие глубокомысленные рассуждения, что у него закружилась голова; затем последовал сильный истерический припадок, после которого он не переставал бредить в продолжение целого дня. Он делал свое завещание, говорил о Боге, о своем рождении и о том, что каждый человек должен умереть, и тому подобное. Ночью было то же самое. Этот молодой человек был и физически и нравственно крайне чувствителен, поэтому доктор был в большом затруднении, так как он не мог прибегать к тем средствам, которые считал необходимыми». На счастье пути родственников пересеклись: «Вечером приехал сюда военный министр; он уехал из армии и направлялся в Тверь, со всею своею свитою. Ему доложили, что тут находится его племянник в тяжелом положении: раненый и без денег. Министр послал к нему своего адъютанта и своего доктора с 300 рублями и велел передать, что болезнь не позволяет ему прийти самому его навестить. Он провел здесь ночь и уехал на следующее утро» . Впоследствии юный кавалергард излечился и принимал участие в Заграничных походах.
После оставления Москвы раненых отправляли во внутренние губернии, в основном во Владимирскую и Ярославскую. В наибольшей степени повезло тем из них, чье будущее взял на себя начальник 2-й сводно-гренадерской дивизии граф М. С. Воронцов. О благотворительности военачальника поведал брат московского почт-директора А. Я. Булгаков: «В верстах 30-ти от сего города (Владимира. - Л. И. ) имел пребывание в селе своем Андреевском генерал-адъютант граф Михаил Семенович Воронцов. Он был ранен пулею в ляжку под Бородином и приехал в вотчину свою лечиться. Андреевское сделалось сборным местом большого числа раненых, и вот по какому случаю. Привезен, будучи раненый, в Москву, граф Воронцов нашел в доме своем, в Немецкой слободе, множество подвод, высланных из подмосковной его для отвоза в дальние деревни всех бывших в доме пожитков, как то: картин, библиотеки, бронз и других драгоценностей. Узнав, что в соседстве дома его находились в больницах и в партикулярных домах множество раненых офицеров и солдат, кои, за большим их количеством, не могли все получать нужную помощь, он приказал, чтобы все вещи, в доме его находившиеся, были там оставлены на жертву неприятелю; подводы же сии приказал употребить на перевозку раненых воинов в село Андреевское. Препоручение сие было возложено графом на адъютантов его, коим приказал также, чтобы они предлагали всем раненым, коих найдут на Владимирской дороге, отправиться также в село Андреевское, превратившееся в госпиталь, в коем впоследствии находилось до 50 раненых генералов, штаб- и обер-офицеров и более 300 рядовых.
Между прочими ранеными находились тут генералы: начальник штаба 2-й армии граф де Сен-При, шеф Екатеринославского кирасирского полка Николай Васильевич Кретов, командир Орденского кирасирского полка полковник граф Андрей Иванович Гудович; Лейб-егерского полка полковник де Лагард; полковой командир Нарвского пехотного полка полковник Андрей Васильевич Богдановский; Новоингерманландского пехотного полка майор Врангель; старший адъютант сводной гренадерской дивизии капитан Александр Иванович Дунаев; Софийского пехотного полка капитан Юрьев; адъютанты Орденского кирасирского полка поручики Лизогуб и Почацкий; лейб-гвардии Егерского полка поручики Федоров и Петин, офицер Нарвского пехотного полка капитан Роган; поручики Мищенко, Иванов, Змеев, подпоручик Романов и многие другие, обагрившие кровью своею Бородинское поле.
Все сии храбрые воины были размещены в обширных Андреевских палатах самым выгодным образом. Графские люди имели особенное попечение за теми, у кого не было собственной прислуги. Нижние чины размещены были по квартирам в деревнях и получали продовольствие хлебом, мясом и овощами, разумеется, не от крестьян, а насчет графа Михаила Семеновича; кроме сего, было с офицерами до ста человек денщиков, пользовавшихся тем же содержанием, и до 300 лошадей, принадлежавших офицерам; а как деревни графа были оброчные, то все сии припасы и фураж покупались из собственных его денег.
Стол был общий для всех, но каждый мог по желанию своему обедать с графом или в своей комнате. Два доктора и несколько фельдшеров имели беспрестанное наблюдение за ранеными; впоследствии был приглашен графом в Андреевское искусный оператор Гильдебрант. Излишне прибавлять здесь, что, как и все прочее содержание, покупка медикаментов и всего нужного для перевязки раненых производилась на счет графа. Мне сделалось известным от одного из коротких домашних, что сие человеколюбие и столь внезапно устроившееся в Андреевском заведение стоило графу ежедневно до 800 рублей. Издержки сии начались с 10 сентября и продолжались около четырех месяцев, то есть до совершенного выздоровления всех раненых и больных. Надобно принять с уважением, что заслуженный и достопочтенный старец граф Семен Романович Воронцов был тогда жив: сыну его надлежало отнимать значительную часть собственного необходимого дохода, чтобы прикрывать все потребности и обеспечивать лечение столь значительного числа храбрых воинов.
Ласка, добродушие, ум и любезность хозяина соделывали общество его для всех отрадным. Несмотря на то, что он не мог еще ходить без помощи костылей, он всякое утро навещал всех своих гостей, желая знать о состоянии здоровья всякого и лично удостовериться, все ли довольны. Всякому предоставлено было (как сказано выше) обедать в своей комнате одному или за общим столом у графа; но все те, коим раны позволяли отлучаться от себя, предпочитали обедать с ним. После обеда и вечером занимались все разговорами, курением, чтением, бильярдом или музыкой. Общество людей совершенно здоровых не могло бы быть веселее всех сих собравшихся раненых» . Мало кто в России располагал материальным достатком равным тому, которым пользовался граф М. С. Воронцов, доказавший на деле все преимущества своего богатства.
В числе медиков, оказывавших помощь временным обитателям села Андреевское, А. Я. Булгаков назвал имя знаменитого хирурга Ф. А. Гильтебрандта, практиковавшего в Москве и по воле случая оказавшегося во Владимирской губернии. Случай этот был непростым: опытный «оператор» сопровождал в дороге князя П. И. Багратиона, «жестоко раненного» при Бородине «на средине берцовой кости левой ноги черепком чиненого ядра». Рана «знаменитейшего военачальника» оказалась смертельной, но возможно ли было предотвратить летальный исход? В «Кратком рассмотрении всей болезни», подписанной лейб-гвардии Литовского полка доктором надворным советником Говоровым, «свидетельствованной и утвержденной» доктором и профессором коллежским советником и кавалером Гильтебрандтом и главным медиком 2-й Западной армии надворным советником и кавалером Гангартом сообщалось: «Рана, полученная князем Багратионом на поле сражения, с первого взгляда казалась неважною; поелику наружное малое отверстие оной скрывало раздробление берцовой кости и повреждение кровеносных сосудов и нервов. Со дня сражения беспрестанные переезды с места на место и слухи о неприятельских движениях на Москву, равным образом и вторжение их в столицу, представляли ввиду князя опасность, чтобы не попасться в плен. Сия опасность вынуждала князя с того времени до самой ночи 8-го числа сентября ежедневно торопиться ездою до села Симы, исключая полутора дня, проведенные в Москве. Худая осенняя погода, тряская дорога, двукратный на квартирах вынос в сутки князя из кареты и опять в оную, трудности, сопряженные с тем, от которых боль и страдание князя увеличивались до чрезвычайности, и другие неблагоприятные обстоятельства, сопутствовавшие дороге, были причиною того, что рана день ото дня становилась хуже, а с тем умножались жесточайшие припадки горячки. Самые врачебные пособия, чрез помянутое состояние князя, не только не могли способствовать к успокоению болезненных припадков, но, от сырой погоды, тряски и других вышесказанных обстоятельств, более вредными становились для раненого князя.
При сем надобно упомянуть, что предшествовавшие ране разные болезни… от которых князь, по уверению доктора Гангарта, многократно им и другими врачами был пользован, сделали сложение его столь слабым и истощенным, что оно никак не было надежно для вынесения раны.
Вот главные причины, усилившие опасность раны и сделавшие оную напоследок смертельною» .
Как известно, успех любого лечения напрямую зависит от настроения пациента, среди которых князь Багратион был не самым сговорчивым: «На предложение медиков князю, чтоб он позволил себе, не отлагая времени, сделать большой разрез в ране для изъятия из оной черепка и других может быть инородных тел, настоятельный ответ всегда состоял в прекословии оному и несоглашении на минутное терпение от операции, до приезда в село Симы, где князь был намерен остановиться на несколько дней» . Сознавал ли сам «лев русской армии» опасность своего положения? Может быть, он прекословил медикам по неведению?
Знаменитый в те годы врач М. Я. Мудров утверждал, что «врачевание состоит не в лечении болезни, не в лечении причин, врачевание состоит в лечении самого больного». О чем мог думать после сражения человек, «рожденный для чисто воинского дела»? За день до смерти, отказавшись принимать лекарства и умирая от раны, Багратион сказал тем, кто за ним ухаживал на одре болезни: «Жизнь с некоторых пор стала для меня тяжким бременем». Когда ему стали приходить в голову подобные мысли? Когда он внезапно распродал свои владения в Павловске, где он был с 1803 года бессменным генерал-губернатором? Почему ему сделался не нужен привычный дом? Что за этим стояло: предчувствие смерти или страх перед старостью? Последнее обстоятельство тревожило князя гораздо сильнее первого, в котором он видел для себя желательный исход. Он привык, как вспоминал Ермолов, к «рассеянности», к жизни в седле. Когда медики, осмотрев его рану, предложили ампутацию ноги, то «сие предложение навлекло гнев князя».
На том жизненном рубеже, которого достиг князь, у него было два пути: остаться в живых, затем достигнуть чина фельдмаршала и ордена Святого Георгия 1-й степени или встретить свою смерть в бою. Вопреки Л. Н. Толстому, представившему Багратиона в своем романе «простым солдатом без связи и интриг», этот полководец занимал одно из главных мест в петербургском высшем обществе; если бы он остался в живых и стал фельдмаршалом, то на склоне лет он поселился бы в Москве, где был похоронен прах его отца, где проживали его родственники. Ведь именно туда отправлялись на покой все вельможи екатерининского времени, жизнь которых была для него образцом для подражания. Но для того, чтобы эти планы осуществились, Москву следовало отстоять у неприятеля. Без этого жизнь не представляла для Багратиона смысла… Московский генерал-губернатор граф Ф. В. Ростопчин вспоминал: «Когда утром того дня, в который Москва впала во власть неприятеля, я приказал объявить ему, что надо уезжать, он написал мне следующую записку: "Прощай, мой почтенный друг. Я больше не увижу тебя. Я умру не от раны моей, а от Москвы"» . Он был к себе беспощаден: город, который он обещал защищать до последней капли крови, в котором покоился прах его отца, «впал во власть неприятеля», следовательно, он не должен был более жить. Он говорил, что честь ему дороже тысячи жизней, и сдержал слово чести. Князь Багратион скончался от гангрены 12 сентября 1812 года в селе Симы Владимирской губернии, принадлежавшей его другу князю Б. А. Голицыну.
Многих раненых офицеров, у которых были ранения «с повреждением кости» лечили «в стационаре» по-разному. Ф. А. Гильтебрандт предписывал лечение, которое состояло «из внутреннего употребления декокта хины с настоем имбирного корня, питья воды с вином, лимонным соком или Галлеровым эликсиром и перевязывания раны Арцеевою, или Стираксовою мазью, не опуская и припарки из ароматических трав». Другой доктор «прикладывал корпию, напитанную сырым яичным желтком, смешанным с четырьмя каплями трепентанного масла» . Был медик, который для заживления ран использовал «кусочек березового трута, который закрывался корпией, тряпками и полотенцем». Или же вокруг ран накладывался «смолистый пластырь», а поверхность повреждения засыпалась канифолью.
В «Кратком рассмотрении всей болезни» князя Багратиона отмечено «слабое и истощенное сложение» полководца, которое «никак не было надежно для вынесения раны». Пожалуй, подобным же образом можно было охарактеризовать состояние здоровья многих офицеров в эпоху беспрерывных войн. В те годы отпуска им предоставлялись нечасто. В военную страду отлучаться из полка воспрещалось, да и сами офицеры императорской армии сочли бы это для себя бесчестьем. В период же мирного затишья для отпуска следовало иметь вескую причину, как то: болезнь или смерть близких, вступление в права наследования, женитьба, излечение ран или иных тяжких заболеваний. Оставить на время службу позволялось с разрешения высшего начальства (в гвардии - с разрешения императора) не ранее сентября, а вернуться в строй полагалось не позднее апреля. По старой традиции считалось, что военные кампании на зиму прерываются и войска становятся на зимние квартиры, хотя в пору Наполеоновских войн время года, по существу, уже не имело значения. Смерть князя Багратиона позволила одному из его адъютантов проситься в отпуск немедленно. Показательна «история болезни» боевого офицера, изложенная в рапорте начальника Главного штаба 2-й Западной армии генерал-адъютанта графа Э. Ф. де Сен-При (через два дня после смерти князя Багратиона) на имя исполняющего обязанности военного министра генерал-лейтенанта князя А. И. Горчакова 1-го: «Александрийского гусарского полка ротмистр барон Беервиц, в минувшем еще 1811 году уволен был предместником Вашего Сиятельства (М. Б. Барклаем де Толли. - Л. И. ) для излечения болезни. Но быв назначен в адъютанты к главно-командовавшему (sic!) 2-ю Западною армиею, генералу князю Багратиону, он, исполняя волю Его Сиятельства, поспешил к определенной должности и чрез то не воспользовался высочайшим позволенным отпуском. Достойный сей офицер со времени определения его в адъютанты, до самой кончины главнокомандовавшего князя Багратиона, во всю нынешнюю кампанию, служил Его Императорскому величеству с отличным усердием, расторопностию и храбростию. Но как в продолжении нынешней кампании барон Беервиц быв всегда на действительной службе, никак не мог лечиться от болезней, то оные от беспрестанных походов, разных непогод и ненастья до крайности в нем усилились, во удостоверении чего прилагаю у сего докторское свидетельство. Почему я и осмелился на основании прежде данного ему Высочайшего позволения уволить его в домовой отпуск для лечения впредь до Высочайшего разрешения. А Вашего Сиятельства всепокорнейше прошу дать ему барону Беервицу формальное увольнение от службы впредь до излечения болезней, и снабдив его пашпортом для пользования минеральными кавказскими водами. Таковой отпуск приказать отправить к нему Херсонской губернии, в уездный город Александрию, где он до воспоследования разрешения находиться будет. 14 сентября 1812 года. Село Симы» . К рапорту действительно прилагалось свидетельство главного медика 2-й Западной армии Гангарта, в котором говорилось, что ротмистр барон Беервиц «по причине застарелой ломотной болезни в левой руке и ноге, от которой весьма часто, особенно же в сырую погоду, терпит жестокую боль, препятствующую совершать свободные движения, требует довольно долгого времени для пользования себя минеральными водами» .
Кстати, многие русские офицеры поправили свое здоровье в Заграничном походе по Европе во время Плейсвицкого перемирия, заключенного между Наполеоном и союзными державами на срок с 23 мая по 8 июля 1813 года. «Военные питомцы незабвенного начальника-героя графа Александра Ивановича Остермана-Толстого» генерал-майор М. И. Карпенков и его друг подполковник M. М. Петров, получив от своего корпусного командира безвозмездно «пособие на случай надобности в болезни их в чужой земле», отправились к Альтвассерским водам. Петров вспоминал: «Леча рану мою, пребывая обыкновенно не отдельно от генерала Карпенкова, я жил с ним в селении Альтвассере, близ города Ландсгута, у кислых минеральных вод, ставших ему в необходимость по колотьям и судорогам в пояснице его, часто случавшимся, после инцета излетной картечи на живот, полученного при Бауцене» . Туда же отправился и свитский офицер А. А. Щербинин с приятелем-сослуживцем: « Желал я быть уволен к Альтвассерским водам. Мне помог в сем почтенный Карл Федорович (Толь. - Л. И. ), и 21-го числа июня отправились мы с Михайло Андреевичем Габбе в Альтвассер. Я имел нужду пользоваться целительными водами и свободою. После сражения под Люценом страдал я сильною лихорадкою. Несмотря на сие продолжал я работать в канцелярии. Михаил Андреевич Габбе с самого 28 апреля был болен сильною нервическою лихорадкою. Я пользовался ежедневно ваннами с совета здешнего доктора Гинце» . «Целительные воды» и покой помогли многим, но не М. И. Карпенкову: в сражении при Бауцене «контузия картечи повредила живот его до того, что он ходил, согнувшись в дугу опираясь на костыль». Оказалось, что храброму генералу следовало лечиться не кислыми, а пресными водами: «Когда болезнь генерала Карпенкова по присуждении факультета военных докторов армии потребовала пользования пресными минеральными водами, то мы переехали в половине августа в Вармбрунн, имеющий точно такую воду, в 28 градусов натуральной теплоты, вытекающую из гор Богемских скрытыми жилами в два бассейна, красиво надстроенные купольными храмами со светлицами вокруг для переодевания купающихся».
Все русские воины от генерала до рядового страдали в равной степени одинаковыми болезнями, от которых долечивались уже в России, по окончании «большой войны». Испытания 1812 года не для всех окончились «без последствий». Находившийся на русской службе «французской нации, из дворян» генерал-майор А. А. Бельгард, по-видимому, пережил тяжкое потрясение при виде страданий и злоключений своих соотечественников. Его начальник генерал-лейтенант граф Штейнгель доносил в конце кампании 1812 года командиру корпуса генералу от кавалерии графу П. X. Витгенштейну:
«Генерал-майор Бельгард, потеряв ум, дошел в своем положении до жалостного человечеству состояния, и я принужденным нашел отпустить его с бывшим при нем адъютантом Альбедилем в Кенигсберг для пристроения в заведенный там для таковых дом, ибо при войсках ему в сем виде находиться или иметь над ним надзор невозможно: но надобно доложить Вашему Сиятельству, как особе, имеющей особенную доверенность у государя императора, о неоставлении Г. Бельгарда милостивым представительством вашим, ибо он, служа столь похвально Его Императорскому Величеству, оставляет теперь жену и детей в прежнем положении» .
О сгоревших в Москве русских больных и раненых
Кстати, о раненых. Историк Н.А. Троицкий пишет об оставлении Москвы:
«Царские власти оставили в городе, обреченном на сожжение, 22,5 тыс. раненых, из которых от 2 до 15 тыс. (по разным источникам) сгорели».
Но так ли все было на самом деле?
С одной стороны, действительно в Москве было сосредоточено огромное количество больных и раненых русских солдат и офицеров. Из сохранившихся документов следует, что к 1 (13) сентября 1812 года в Москве в госпиталях было собрано 22 500 человек. Но в этих же документах говорится, что в девять часов вечера было дано «внезапное приказание о выводе больных и раненых из Москвы, коих большая часть взяла направление к Владимиру и Рязани».
Историк А.А. Смирнов, специально занимавшийся этим вопросом, делает предположение, что 22 500 человек «не были «оставлены в городе», а только собраны в Москве. А поскольку большая часть больных и раненых вышла из Москвы, то остаться могла лишь примерно треть указанного количества, то есть около 7 тыс. Однако это еще не означает, что все они сгорели, ибо, как известно, пожар уничтожил не все госпитали».
С другой стороны, граф Ф.В. Ростопчин, в последний момент узнав о решении М.И. Кутузова сдать Москву, с негодованием писал жене: «Бросают 22 000 раненых…» Этим он, естественно, стремится подчеркнуть, что «бросают» они, военачальники, принявшие такое решение, а лично он к этому не имеет никакого отношения, хотя вся тяжесть эвакуации города легла именно на его плечи.
При всем при этом Ф.В. Ростопчин даже не высказывает предположения о возможной гибели какого-либо числа русских больных и раненых в московском пожаре.
Генерал А.П. Ермолов в своих «Записках» тоже указывает на то, что в Москве было собрано более 20 000 человек. Но он говорит об этом так:
«Кутузов дал необдуманное повеление свозить отовсюду больных и раненых в Москву <…> и более двадцати тысяч их туда отправлено».
Получается, что генерал Ермолов тоже говорит не об оставленных в Москве, а о собранных в ней.
Иногда даже называется цифра 26 000 больных и раненых, но из них якобы осталось в городе около 10 000 человек, а остальные были вывезены или как-то выбрались сами.
Карл фон Клаузевиц в письме жене об оставлении Москвы, датированном 28 октября 1812 года, сообщает:
«Улицы были полны тяжелоранеными. Страшно подумать, что большая часть их – свыше 26 000 человек – сгорела».
Историк А.А. Смирнов по этому поводу пишет:
«Достоверность этих сведений весьма сомнительна. Скорее всего, они основаны на слухах, ибо автор письма не знал русского языка <…> Будучи во время оставления Москвы начальником штаба 1-го кавалерийского корпуса, Клаузевиц находился в арьергарде российских войск и покинул Москву одним из последних. Конечно, он мог видеть раненых, но количества их не подсчитывал, а воспользовался, вероятно, чьим-то рассказом».
Что же касается Бюллетеней Великой армии, то вряд ли их можно рассматривать как объективные документы, что неоднократно уже доказывали историки. В 19-м Бюллетене от 4 (16) сентября 1812 года сообщалось из Москвы:
«Тридцать тысяч раненых или больных русских находятся в госпиталях, оставленные без помощи и пищи».
А, например, 20-й Бюллетень на другой же день заявлял:
«Тридцать тысяч русских раненых и больных сгорели».
Совершенно непонятно, как французы могли подсчитать это количество?
«Большого стоило труда вытащить из загоревшихся домов и госпиталей некоторую часть больных русских; осталось еще четыре тысячи сих несчастных. Число погибших во время пожара чрезвычайно значительно».
Погрузка раненых
А.А. Смирнов по этому поводу иронизирует:
«Сопоставив эти цифры, получим, что все 30 тыс. раненых, оставленных в Москве, сгорели. Если так, то какую же часть из них французы спасли? А если спаслись от пожара 4 тыс., то, значит, оставлено было гораздо больше 30 тысяч, а 30 тыс. были лежачими, то есть не могли самостоятельно выбраться из огня. В этом случае цифра оставленных в Москве русских раненых может превысить общую цифру потерь в Бородинском сражении. Как видно, если верить бюллетеням, то можно дойти до абсурда».
На самом деле назвать точную цифру брошенных на произвол судьбы больных и раненых вряд ли возможно. Разные источники насчитывают оставленных в диапазоне от 2000 до 15 000 человек, но это совершенно не значит, что все они сгорели в московском пожаре.
Генерал А.И. Михайловский-Данилевский пишет, что в Москве к моменту ее сдачи накопилась 31 000 раненых, и «гражданское начальство принуждено было покинуть в Москве до 10 000 раненых, из коих весьма немногие спаслись от огня, голода и свирепства неприятелей».
Итальянский офицер Чезаре Ложье утверждает, что в Москве оставалось «более 20 000 тяжелобольных и раненых; считают, что погибло 10 000, то есть приблизительно половина всех».
Историки Эрнест Лависс и Альфред Рамбо в своей «Истории XIX века» говорят о том, что «русские раненые из-под Бородина были брошены в госпиталях; 15 000 их сгорело».
Впрочем, источников подобных заявлений никто не приводит.
В самом деле, можно быть свидетелем какого-то события и потом написать о нем, но как можно пересчитать в огромном горящем городе всех больных и раненых солдат и офицеров одной из армий, а потом еще и выделить из них число сгоревших? Очевидно, что это нереально…
Вот, например, строки из письма лейб-хирурга Я.В. Виллие А.А. Аракчееву:
«Раненые, отправленные в Москву, получали на каждой станции перевязку; теплую пищу, вино и прочее <…> К крайнему моему сожалению, не имею я до сих пор сведения, сколько больных и раненых вышло из Москвы: ибо они принуждены были оставить оную внезапно и идти по разным дорогам. Причины же умножения в армии больных должно искать в недостатке хорошей пищи и теплой одежды. До сих пор большая часть солдат носят летние панталоны, и у многих шинели сделались столь ветхи, что не могут защищать их от сырой и холодной погоды».
Как видим, даже главный медик действующей армии Джеймс Виллие (он был шотландцем по происхождению) не имел точных сведений о том, сколько больных и раненых вышло из Москвы. Что же говорить о других…
Понятно, что судьба брошенных в Москве больных и раненых была ужасна. И дело тут не в точном подсчете их количества. Все это страшно, независимо от того, было их 15 000 или, например, «всего» сто человек.
Один из очевидцев происходившего в Москве оставил нам кошмарные воспоминания:
«Как только огонь охватил здания, где были скучены раненые, послышались раздирающие душу крики, восходящие как бы из громадной печи. Вскоре несчастные показались в окнах и на лестницах, напрасно силясь унести свое полуобгоревшее тело от огня, который их обгонял… Силы им изменяли; задыхаясь от дыма, они не могли уже более ни двигаться, ни кричать… Несчастные умирали в страшных мучениях».
Повторимся, совершенно неважно, сколько их было. Все их жизни лежат на совести совершенно конкретных людей…
Историк А.И. Попов делает вывод:
«Конечно, нельзя исключить некоторые случаи жестокого обращения наполеоновских солдат с русскими ранеными, но они не носили массового характера. Основная часть русских раненых погибла в результате пожара, главными виновниками которого – и в этом нет оснований сомневаться – были их соотечественники. Знал ли Ростопчин, что Кутузов оставит Москву и в ней столько раненых? Знал ли Кутузов, какую участь готовит первопрестольной Ростопчин? Вопросы риторические – Ростопчин не был приглашен на совет в Филях».
Из книги Первый удар Сталина 1941 [Сборник] автора Суворов ВикторАлександр Больных Тильзитский тупик Если говорить о планах превентивного удара Советского Союза по Германии в 1940-х годах, то можно заметить одну интересную особенность. С легкой руки британского историка (советского изменника Суворова) Резуна принято считать, что
Из книги XX век танков автора Больных Александр ГеннадьевичАлександр Больных XX век танков Откуда есть и пошла танковая война Что такое танковая война? На этот наивный вопрос без малейших затруднений отвечают военные энциклопедии. СВЭ, например, дает такое определение: «Танковая война (иностр.) - понятие, выражающее
Из книги АнтиМЕДИНСКИЙ. Псевдоистория Второй Мировой. Новые мифы Кремля автора Буровский Андрей МихайловичАлександр Больных. Чтобы в ложь поверили.. Чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной. Д-р Геббельс Когда мне предложили поработать с книгой В. Мединского «Война», я погрузился в глубокие размышления. В общем-то это неблагодарное занятие - ловить блох в чужой книге,
Из книги Опасное небо Афганистана [Опыт боевого применения советской авиации в локальной войне, 1979–1989] автора Жирохов Михаил АлександровичДоставка боеприпасов и продовольствия, эвакуация раненых и больных Для доставки боеприпасов и продовольствия, эвакуации раненых и больных выделялась пара вертолетов Ми-8МТ (боевая зарядка в зависимости от загрузки, САБ, два блока Б8В20 и боекомплект к пулемету).Выполнение
Из книги Описание Отечественной войны в 1812 году автора Михайловский-Данилевский Александр ИвановичНаполеон в Москве Наполеон намеревается угрожать Петербургу. – Противное сему мнение Маршалов. – Наполеон решается оставаться в Москве. – Возвращение его из Петровского дворца в Москву. – Вид столицы. – Меры осторожности в Кремле. – Разорение Кремля. – Разговор
Из книги Солдаты и конвенции [Как воевать по правилам (litres)] автора Веремеев Юрий ГеоргиевичКонвенция по улучшению участи раненых и больных в армиях в поле Женева, 6 июля 1906В 1906 году заключается новая, радикально переработанная конвенция, которая оказалась значительно более подробной (33 статьи против 10). Она уточнила ряд положений и обговорила то, что было ранее
Из книги Индейцы Дикого Запада в бою. «Хороший день, чтобы умереть!» автора Стукалин Юрий ВикторовичКонвенция по улучшению участи раненых и больных в армиях в поле Женева, 24 июля 1929 г.Опыт Первой мировой войны и практика применения конвенции 1906 года потребовали внести определенные уточнения и изменения, более соответствующие изменившимся условиям войны. Поэтому летом
Из книги Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк автора Маргелов Василий ФилипповичГлава 17 Поведение раненых воинов в бою Все белые современники отмечали, что раненый индейский воин, подобно медведю гризли, становился наиболее опасным противником. Если путь к отступлению был отрезан, он отстреливался или отбивался ножом, стараясь нанести врагу
Из книги 1941. Совсем другая война [сборник] автора Коллектив авторовГлава 20 Лечение раненых Ноа Смитвик писал, что никогда не видел ни одного индейца с врожденными физическими дефектами, но они очень гордились полученными в боях шрамами, особенно от пуль, делая вокруг них татуировки. Выбитые глаза и челюстно-лицевые травмы не были
Из книги Россия в Первой мировой войне автора Головин Николай Николаевич3. На подступах к Москве Гитлеровское командование после провала плана захвата Москвы с ходу в первые месяцы войны подготовило крупную наступательную операцию под кодовым наименованием «Тайфун». План предусматривал тремя мощными ударами танковых группировок из
Из книги Мост шпионов. Реальная история Джеймса Донована автора Север АлександрАлександр Больных. Тильзитский тупик Если говорить о планах превентивного удара Советского Союза по Германии в 1940-х годах, то можно заметить одну интересную особенность. С легкой руки британского историка (советского изменника Суворова) Резуна принято считать, что
Из книги 1812. Полководцы Отечественной войны автора Бояринцев Владимир ИвановичАлександр Больных. «Festung Moskau» Совсем недавно в Екатеринбурге проходил ежегодный фестиваль фантастики «Аэлита-2010», лауреатом которого стал один из зачинателей жанра альтернативной истории в России питерский писатель Андрей Лазарчук. В то время, когда историки еще только
Из книги автораАлександр Больных. Секса у нас нет. Гинденбургов тоже… Хорошо жить в Греции, ведь, по словам Антона Павловича Чехова, в этой стране есть абсолютно всё. Зато в России, если верить некоей учительнице, нет даже секса, наверное, именно поэтому мы сейчас сидим в демографической
Из книги автораЧИСЛО РАНЕНЫХ Определить отдельно численность раненых, задержанных нами в лечебных заведениях театра военных действий, очень трудно.Научное статистическое исследование потерь в минувшую войну, сделанное на основании исчерпывающего изучения собранного материала на
Из книги автораВ Москве О том, что происходило в германском посольстве в Москве в первые дни Великой Отечественной войны, должен был бы рассказать в своих мемуарах «В бурях нашего века: записки разведчика-антифашиста» агент советской военной разведки и сотрудник этой дипмиссии Герхард
Из книги автораНаполеон в Москве Наполеон въехал на Поклонную гору и, увидев расстилающуюся у ног его древнюю столицу русского государства, воскликнул: «Наконец вот он – этот знаменитый город!.. Теперь война кончена».15-го сентября Наполеон торжественно въехал в Москву. У
507. Вдохновение
Какое прекрасное утро! Чувствую, будто голубь жизни радостно встрепенулся в груди, и оттого захотелось собрать к большому столу много приятных людей, рассказать им про всё, слушать и особенно взять бы да вместе запеть. Но невозможно собраться, и оттого вместо хора я стою один у окна и сочиняю... (М. Пришвин.)
(47 слов. Непроизносимые согласные. Приставки. Удвоенные согласные. Глаголы на ться.)
Задание Графически обозначьте члены предложения и укажите, какой частью речи они выражены.
508. Госпиталь
Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные маньчжурские черноклёны, а внизу, под откосом, неустанно пели укутанные в серебристый кустарник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжёлых - двое. (А. Фадеев.)
(35 слов.)
Задание Графически обозначьте члены предложения и укажите, какой частью речи они выражены. Какая знаменательная часть речи здесь не представлена?
509. Вынужденное причаливание
Наш катер подходил к Дальним скалам. Он качался на волне, валился с борта на борт, даже зарывался кормой. Прямо по носу уже виднелся небольшой островок и две причудливо изогнутые скалы.
Подошли к островку. Катер тотчас же ткнулся носом в песок, плотный и чёрный, как асфальт. Мы выпрыгнули на берег и огляделись. Островок весь порос жёсткой травкой. Нигде не видно было ни души.(С. Сахарное.)
(62 слова. Гласные в корнях слов.)
Задание Подчеркните знаменательные части речи.
БОЛЬНЫЕ И РАНЕНЫЕ, в международном праве военнослужащие и гражданские лица, которые в ходе вооружённого конфликта нуждаются в немедленной медицинской помощи или уходе (в том числе потерпевшие кораблекрушение, беременные женщины, кормящие матери, новорождённые младенцы и др.). Общий принцип международного гуманитарного права заключается в гуманном обращении с больными и ранеными при любых обстоятельствах.
Понятие «больные и раненые» распространяется на комбатантов (лиц, принадлежащих к составу вооруженных сил воюющей стороны, участников военных ополчений, отрядов добровольцев, включая личный состав организованного движения сопротивления, население, стихийно взявшееся за оружие) и некомбатантов (лиц из состава вооруженных сил, не принимающих участия в боевых действиях - медицинский и духовный персонал, корреспонденты и т.п.). Попавшие во власть неприятеля больные и раненые воюющей армии считаются военнопленными, к ним должен применяться режим военного плена.
Первые попытки выработать нормы о больных и раненых предпринимались с 16 века в период образования абсолютистских государств и появления постоянных армий. Нормы международного права, определяющие режим больных и раненых во время вооруженного конфликта, начали складываться в период Французской революции 18 века. Первые многосторонние конвенции о защите больных и раненых, медицинских учреждений и их персонала во время войны были заключены в 1864 году (война на суше) и 1899 году (война на море). Современные нормы, касающиеся защиты больных и раненых, изложены в Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях (1949) и Женевской конвенции об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (1949), а также в двух Дополнительных протоколах (1977) к этим конвенциям.
Положения конвенций устанавливают, что все больные и раненые независимо от цвета кожи, религии и пола, национального или социального происхождения, политических или других убеждений пользуются одинаковым покровительством. Правила о больных и раненых должны применяться во время войны; в ходе любого вооруженного конфликта между двумя или несколькими сторонами (даже если одна из них не признаёт состояния войны); во всех случаях военной оккупации (в том числе, если эта оккупация не встречает никакого вооруженного сопротивления).
В войне на суше воюющие обязаны принимать немедленные меры для поиска и сбора больных и раненых. В случае необходимости для этого устанавливается перемирие. Больные и раненые должны быть эвакуированы из опасной зоны, тяжелобольные и тяжелораненые - репатриированы во время конфликта на родину или в одно из нейтральных государств; остальные подлежат репатриации по окончании военных действий. Запрещается добивать и истреблять больных и раненых, подвергать их пыткам, использовать для биологических опытов или медицинских экспериментов. Мёртвых подбирают и достойно хоронят.
Медицинский персонал находится под защитой гуманитарного права, воюющие должны относиться к нему с уважением и обеспечивать защиту. Медицинский персонал может быть задержан противником; в таком случае он должен продолжать выполнение своих функций, предпочтительно в отношении собственных граждан. Защите подлежат как постоянные, так и подвижные медицинские формирования.
В морской войне применяются в основном те же нормы, но с учётом морской специфики. Конвенция уравнивает больных и раненых и лиц, потерпевших кораблекрушение, под которым, помимо гибели морского судна, понимается также падение в воду самолёта. Особое значение имеют поиск и спасение, они должны предприниматься немедленно после сражения самими боевыми кораблями (при осуществлении таких операций корабли не обретают защиты). Воюющие могут просить нейтральное судно принять на борт раненых и потерпевших кораблекрушение. Такие суда не подлежат захвату.
Госпитальные суда окрашиваются в белый цвет и несут, наряду с национальным, флаг с эмблемой Красного Креста. Название и описание судна сообщается противнику, после этого оно не должно подвергаться нападению или захвату. Медицинский персонал и команда судна не подлежат пленению, однако госпитальное судно может быть подвергнуто досмотру и поставлено под временный контроль противником.
Нормы международного гуманитарного права инкорпорированы в национальное законодательство: в российском законодательстве, в частности, содержатся положения, обязывающие военнослужащих соблюдать нормы о больных и раненых. За нарушение указанных норм наступает юридическая ответственность (в том числе уголовная).
Лит.: Тиунов О. И. Международное гуманитарное право. М., 1999.