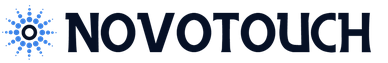Рассказы о лагерях смерти от узников. Вернувшиеся из ада. Воспоминания узников концлагерей. «Когда приехал отец, я его страшно испугалась»
До 1943 года наша семья проживала в деревне Хорошево Пасиенской волости Лудзенского уезда. Семья состояла из пяти человек: отец Петр Сырцов (1894 года рождения), мать Геновефа Сырцова (1900 года рождения), сестра Саломея (1923 года рождения), сестра Антонина (1930 года рождения) и я.
25 августа 1943 года мы работали в поле на своем хуторе. Убирали пшеницу и на лошади возили в сарай. После обеда со стороны леса появились два полицая и направились в нашу сторону. Подойдя к нам, сказали: «–Бросайте работать, оставляйте скот в поле, сразу все вместе идите домой». Когда отец спросил, в чем дело, они ответили: В вашем доме нужно произвести обыск. Мы ничего не подозревали. Но что-то нас обеспокоило.
Мы все оставили в поле и на лошади приехали домой. Когда мы зашли в дом, полицаи нам объявили: «Вы арестованы всей семьей как политически ненадежные элементы. Никому из дома не выходить. Один час на сборы. Берите документы, личные вещи и продукты – столько, сколько можете унести».
На наш вопрос, куда нас повезут и что с нами будут делать, полицаи ответили: «Поедем в центр деревни Хорошево. Оттуда на автомашинах поедете на станцию Зилупе. Дальше мы ничего не знаем».
От большого шока мы не могли сообразить, что с собой брать, и нужны ли нам вообще вещи и продукты. Пока мы собирались, один полицай пошел к нашему соседу Петру Тращенко и попросил, чтобы он отвез нас с вещами в деревню.
Привезли нас в центр деревни Хорошево. Там стояли три грузовые автомашины, крытые брезентом. Кругом ходили вооруженные полицаи. Место сбора было окружено.
Две машины уже были заполнены людьми. На еще пустую автомашину погрузили нас – семь семей из деревень Хорошево, Долгие, Колесники. Мой отец сказал мне и моей сестре Нине, чтобы мы при посадке в машину убежали, спрятались в сарае и ждали, пока всех увезут. Мы выбрали момент и побежали. Но нас заметил полицай и вернул обратно в машину. Все машины направились на станцию Зилупе. На каждой машине находились четыре вооруженных полицая.
Нас привезли на железнодорожную станцию Зилупе. Там уже находилось под охраной много семей из Пасиенской, Истренской, Бригской и других волостей.
Полицаи открыли задний борт, раздалась команда: «Выходи из машины!». Когда мы выгрузились, машины ушли, но через некоторое время они стали возвращаться и привозить новые арестованные семьи.
Было много знакомых семей из Пасиенской волости: Сырцовы, Голубцовы, Межецкие, Чернявские, Слядзь, Стефановичи, Регинские и другие. На запасном пути стоял товарный состав. К вечеру, когда всех собрали, нас стали загонять в товарные вагоны. В вагонах ступенек не было, и нас толкали, как скот, под мат полицаев. Женщины кричали и плакали. Мужчины ругались. Арестованные заполнили несколько товарных вагонов. Во время следования двери вагонов не открывали, на улицу никого не выпускали, не давали воды. Маленькие окна вагона были забиты решетками. Вагоны были настолько забиты людьми, что лежать и сидеть было невозможно. Были маленькие дети, их нужно было укладывать спать, но где? Дышать было тяжело, не хватало воздуха. Туалета не было. Так нас везли более суток – две ночи. По пути поезд останавливался на станциях, где вагоны загружались такими же семьями.
27 августа после обеда наш товарный состав остановился в лесу. Полицаи-охранники открыли двери вагонов и стали кричать, чтобы мы быстрее выходили из вагонов.
Мы осмотрелись – станции нет. Вокруг лес. Весь состав окружен вооруженными эсэсовцами с автоматами и собаками. Мы расположились на обочине канавы.
Прошли слухи, что взрослые останутся здесь, а детей повезут дальше. Родители стали прощаться с детьми. Делили продукты, вещи. Когда поезд ушел, мы поняли, что это была всего лишь «шутка». Неожиданно из леса прибыло несколько грузовых автомашин с эсэсовцами. Нам приказали погрузить на машины все вещи и продукты. Когда погрузили, машины снова ушли в лес. Тем временем мы успели пообщаться с людьми из других вагонов. Это были такие же, как мы – неблагонадежные для фашистского режима семьи из Латгалии – Лудзенского, Резекненского, Даугавпилсского, Абренского, Краславского уездов. Всех нас привезли сюда, чтобы лишить опоры партизан.
Из леса появилось более десятка эсэсовцев с автоматами. Приказали нам построиться в колонну по пять человек. Мы шли по середине дороги. По обочинам шли конвоиры с автоматами. Шествие замыкали эсэсовцы. Нас вели в глубину леса, где не было никаких признаков жизни. В колонне стали поговаривать, что нас ведут на расстрел. Никто же не знал, что в лесу находится концлагерь.
Прошли примерно километр и увидели высокий забор, в несколько радов обнесенный колючей проволокой. С первого взгляда мы ничего страшного не заметили. За забором простиралось широкое поле.
Когда нас привели на территорию лагеря, то мы увидели: по усыпанным щебнем дорожкам куда-то торопились одетые в серые робы люди. Вокруг двора в три ряда, симметрично, расположились низкие бараки. У двухэтажного здания комендатуры на высоких мачтах развевались два флага. Один - алый с белым кругом и черной свастикой, другой – черный с двумя буквами «SS».
На территории лагеря нас поразило невиданное зрелище. Здесь вертелась живая карусель из заключенных. Узники с носилками бегом передвигались по большому кругу и безо всякой надобности на носилках переносили грунт с одного места на другое. Гестаповец следил презрительным взглядом за этим бессмысленным занятием и время от времени покрикивал: «Быстрее, быстрее!» И люди бежали. Потные, худые, измученные.
Нас встревожила и другая картина. В конце лагеря двигалось несколько оборванных и утомленных людей. На груди и на спинеу них были круглые белые нашивки, у некоторых на шее висела доскас надписью «Fluchting» («Беглец») Люди шли парами, у каждой пары на плечах была длинная жердь. На ней – объемная посудина, наполненная содержимымиз параши в лагерной уборной. Содержимое уносили ивыливали напустую окраину лагеря. Позже узнали, что эту ношу каторжники должны были таскать 14 часов в сутки. А в обед носильщики получали лишь половину положенной порции. Отдыхать им не разрешалось. Люди должны были весь день находиться в движении. И двигались – до тех пор, пока не падали с ног. Этобылизаключенные, за разные провинности зачисленные в так называемую «штрафную группу». Позже отец встретился с одним знакомым из штрафной группы – это был Соловьев из Зилупе. Он рассказал, что несколько человек пытались совершить побег из лагеря, но их поймали. За это их зачислили в штрафную группу.
Вокруг колючей проволоки были установлены наблюдательные вышки, на которых зловеще поблескивали стволы пулеметов и немецкие каски. В центре стояла высокая наблюдательная вышка, с которой весь лагерь был виден, как на ладони. На ней тоже стоял охранник с пулеметом.
Нас привели на площадь перед зданием комендатуры лагеря. Там стояло несколько столов, за ними сидели гестаповцы, которые проводили регистрацию прибывших. Громко крича и ругаясь, гестаповцы выстраивали в очередь людей, столпившихся перед зданием комендатуры.
Началась регистрация прибывших. От каждого требовали паспорт.
Наши личные вещи и продукты, привезенные на машинах, были сгружены в одну большую кучу. Тех, кто прошел регистрацию, отправляли забирать свои вещи из этой кучи. Столпилась масса людей, каждый искал свои вещи, а они оказались разбросанными… Найти свои вещи не было возможности. Договорились, что будем забирать вещи, а там разберемся.
Нас привели в один из бараков. Поскольку в бараке должна была производиться дезинфекции всей одежды, то было приказано продукты и табак сдать. Лучшие продукты попали на кухню коменданта и охраны. Некоторые мужчины придумали закопать табак и папиросы в землю. Они выгадали.
Приказали раздеться всем догола, разложить все вещи по нарам и пройти санобработку. Вскоре появились парикмахеры с машинками и ножницами. У девушек обрезали косы, мужчин подстригали под «кочан» и обстригли усы.
После санобработки всех вместе – детей, мужчин и женщин – голыми, без одежды, погнали в баню. Баня была малопропускная, а нас было несколько сотен человек. За несколько часов все должны были пройти через баню – «помыться». Поэтому вся эта процедура происходила в спешке, очертя голову.
Чтобы женщины и дети голыми не мерзли на улице, мужчины договорились идти в баню последними. Теплой воды на всех не хватало, приходилось мыться холодной.
Когда баню проходили женщины, вовсю проявлялся цинизм гитлеровцев. Они непрерывно ходили по бане и похотливо рассматривали голых женщин. Кто не хотел мыться, тех обливали холодной водой.
При выходе из бани нам давали одно полотенце на несколько человек, но вытираться было некогда. То и дело звучали слова: «Быстрее, быстрее!». Полумокрым, нам из ящика без разбора выбрасывали на плечи белье. Часто узники маленького роста получали длинные рубахи, а высокого роста – короткие. Мужчинам попадалось женское белье, а женщинам мужское. Белье это было с тех заключенных, которых заставляли раздеваться перед расстрелом...
У выхода из бани стояли эсэсовцы. Глядя на полуголых людей, они смеялись, орали, как дикари, толкали нас.
После «бани» нас всех пригнали в пустой барак. Барак не отапливался. Все мы, полуголые, мерзли. Менялись бельем. На голых нарах устраивались на ночлег. Утомившись за двое суток, кто-то уснул, кто-то рассуждал, как пережить ночь, долго ли будут держать в этом бараке, возвратят ли нам наши вещи. Все жались друг к другу, чтобы согреться. В течение всего дня мы ничего не ели, нас мучил голод.
Ночь. В бараке тишина… Света нет. Вдруг пронзительные крики:
– Вставайте! Пожар!
– Все быстро выходите на улицу! Огонь уже охватил барак! Хотите сгореть? – кричит надсмотрщик и стучит плетью.
Сонные, испуганные люди вскакивают, хватают детей, будят непроснувшихся. Ничего не соображая, падают с верхних нар на головы другим. Отчаянные вопли. В бараке, казалось, уже чувствуется запах гари. Люди бегут к дверям, застревают в проеме. Те, кто сзади, нажимают. Плач, стоны. Отчаяние, смертельный страх.
Вырвавшись, наконец, на улицу, мы увидели, что барак окружен вооруженными охранниками. Там же, родом, стоит комендант лагеря Краузе со своей собакой-овчаркой и размалеванной дамой в большой шляпе. Краузе наблюдает за всем происходящим, что-то говорит своей любовнице, и оба смеются. Мы поняли, что никакого пожара нет.
Светлая лунная ночь. Полуголые люди дрожат от страха, пытаются прижаться друг к другу, Дети плачут. Гитлеровец Видуж снова орет:
– Становитесь в строй!
Все, как могли, построились. После этого в течение часа он зачитывал инструкцию, как следует себя вести по сигналу тревоги.
–Ни один из вас не соблюдает этих правил. Если бы вы сгорели, виноваты были бы сами! – издевался он. – Однако на сей раз господин комендант великодушно прощает вас. Теперь всем раздеться догола, бросить белье в кучу и голыми бежать в свой прежний барак, где оставлены ваши вещи.
Господин Краузе, его собака и любовница здорово позабавились...
Прибежали в барак. Вещи разбросаны по нарам. Каждый ищет свои, но найти невозможно. Из чемоданов все вещи вытряхнуты. Все лучшее забрали гестаповцы, ненужное - разбросали. Люди одевались в чужое, потом несколько дней менялись одеждой. На весь барак светилась одна тусклая электролампочка. Так мы провели третью бессонную ночь.
На следующий день всех поставили на питание и дали первый завтрак. Весь день ушел на формирование. Трудоспособным (старше 15 лет) на левый рукав пришили белые ленты с черными номерами. С этого дня мы потеряли свои имена и фамилии. Нас называли только по номерам.
Вечером нас всех построили у бараков для первой переклички. Перед нами выступил один из наиболее доверенных лиц коменданта лагеря гауптштурмбанфюрера Краузе.
– Надеюсь, – сказал эсэсовский прислужник, староста лагеря мадонец Альберт Видуж, – вы понимаете, где находитесь. Будете делать то, что мы скажем. С этого дня вы – заключенные, стало быть, с вами и будут так обращаться. Без конвоя никто не имеет права отходить от барака дальше, чем на 50 метров. Охрана будет стрелять без предупреждения. Любой, даже малейший проступок, карается. Пытаться убежать бесполезно. Каждый будет пойман и безжалостно расстрелян. Весь хлебный паек нельзя съедать утром, иначе вечером придется ложиться спать на голодный желудок. Тому, кто будет хорошо себя вести и старательно работать, бояться нечего. Запомните это!
– После вечерней переклички мы вернулись в свои бараки.
Кормили нас следующим образом: на сутки на взрослого человека давали 200 гр. хлеба с примесью опилок. Утром на завтрак – черный кофе, по вкусу и по виду напоминавший коричневую болотную ржавчину. Обед – баланда из костей конины или рыбных голов (отходы консервной промышленности). У этой баланды был отвратительно дурной запах и вкус. Попадались кусочки гнилой картошки и моркови с запахом керосина. Такую баланду узники называли «новая Европа».

Мне было 14 лет. Я относился к несовершеннолетним. Дети получали дополнительно в обед еще стакан молока и один тонкий кусочек хлеба, намазанный повидлом. На сутки получали 100-150 гр. хлеба и полпорции баланды.
Мы жили в бараке № 8. Бараки были примерно 30 метров в длину. По обе стороны были оборудованы трех или четырехэтажные нары, на которые можно было заползти только на четвереньках. На первом или втором этаже нар размещались семьи с маленькими детьми и стариками. Верхние этажи занимали семьи со взрослыми членами семьи. Бараки были рассчитаны на 250-300 человек, но там помещалось до 500. В каждом бараке стояли по две печи. В октябре и ноябре их еще не топили.
Дни в лагере тянулись, как сплошной кошмар. Каждый день был заполнен событиями – одно тяжелее другого. Часть трудоспособных отправляли плести соломенную обувь для нужд немецко-фашистской армии. В отдельном корпусе, недалеко от лагерной кухни, были оборудованы мастерские. «Армия на соломенных ногах», – смеялись узники.
Часть заключенных отправляли на работу за пределы лагери. Всегда нескольких женщин по очереди брали работать на кухню. Несколько раз такое счастье – работать на кухне – выпадало моей маме и сестре Соне.
Мы, дети, чтобы заполнить время, играли на свалке. Она была недалеко от нашего барака, куда были выброшены негодные чемоданы, банки, бутылки, железо и прочий хлам. Когда особенно сильно хотелось есть, мы бежали в свой барак за оставшимся запрятанным кусочком хлеба, скатывали его в маленькие шарики, клали в карман, а потом по одному клали в рот и долго-долго сосали. Нам казалось, что так лучше можно, утолить голод.

Вскоре в бараке начали свирепствовать корь и дизентерия. Изнуренные организмы детей были неспособны сопротивляться болезни, многие умирали.
У родителей стали отнимать детей. Переводили их в детские бараки. У некоторых матерей – по двое, по трое… Плакали дети, плакали матери. Многие падали без сознания от мысли о разлуке. Но сопротивляться было бесполезно. Из детского барака дети возвращались к родителям только в редких случаях. Рассказывали, что в бараке у детей брали кровь для нужд немецкой армии.
У Дарьи Чернявской из нашего барака отняли пятилетнюю дочку Лизочку. Ей чудом удалось остаться в живых. Каким-то образом об их беде узнала ее тетя из Риги. Она приехала за Лизочкой. В комендатуре ей выдали пропуск, и она пришла в наш барак. В нашем бараке Лизочки не оказалось. Родители сказали, что Лизочку забрали в детский барак. Тетя пошла в детский барак и забрала Лизочку. Принесла ее в наш барак. Это был живой скелет. Но все же девочка осталась жива...
Ночью в бараках спать было невозможно. Вши, блохи и клопы были постоянными спутниками заключенных. Часто ночью люди раздевались и при свете тусклой лампочки, горящей высоко под потолком, уничтожали насекомых.
Изредка администрация лагеря, «заботясь о чистоте», приказывала произвести дезинфекцию бараков и вещей. В конце сентября провели дезинфекцию и нашего барака. Нас на это время отправили в другой барак – изоляционный. Вначале следовало пройти «баню». Все разделись догола. Всех вместе – мужчин, женщин и детей – голыми погнали в «баню». Вода была холодная. После бани наспех выдали белье. Одни получили майку, другие – трусы, третьи – рубахи. После баниженщин с маленькими детьми поместили в отдельный изоляционный барак, мужчин – отдельно, в другой. Нужно было пройти так называемый десятидневный карантин. В бараке нар не было. Лежали и сидели на полу, где была настелена гнилая солома. Поместили в барак около 300 человек. На всеэто количество людей в бараке было два туалета. На улицу десять суток никого не выпускали. Все свои естественные надобности отправляли тут же, в бараке, закладывая парашу гнилой соломой. Потом все это снова растаптывалось, и стояла ужасная вонь. К сожалению, есть тоже нужно было в этом хлеву. Воду для того, чтобы пить, мыть посуду или умываться, не давали. Днем и ночью мы сидели по очереди, а спали, плотно прижавшись друг к другу. Вентиляции не было. Не хватало воздуха, было тяжело дышать. Десять дней и ночей мы изнывали в этомвонючем сарае. Лежали, словно выброшенные на берег рыбы, и открытыми ртами захватывали воздух. Кормили отвратительно. Многие заболевали и умирали. Больше всего гибло детей. В эти бараки каждый день наведывались узники из штрафных групп. В их обязанности входило убирать мертвых.
После того, как наш барак был продезинфицирован циклонным газом, нам дали команду туда вернуться. Опять «баня», после которой нас, голых, погнали в барак, где мы с трудом нашли свои вещи. В октябре было уже холодно, но бараки не отапливались.
Мы не имели почти никаких связей с внешним миром. Не было возможности написать письмо родным. Никто из родственников не знал, где мы находимся. Мы не получали ни писем, ни посылок.
В то время в лагере был такой порядок: руководили им немцы, которые размещались в комендатуре. Наружную охрану несли латышские легионеры СС (SS сокр. Schutzstaffeln – охранные части, войска СС), за чистоту и порядок отвечали латвийские охранники: наказания, расстрелы и прочее проводили гестаповцы-латыши службы СД (SD - служба безопасности). Однажды мой отец встретил в лагере бывшего пограничника по фамилии Лоц, который до 1940 года служил на границе в нашей деревне. Здесь он был охранником лагеря. Отец стал его просить, чтобы он наше письмо бросил в почтовый ящик. Лоц категорически отказался.
В конце октября комендант лагеря Курт Краузе решил снять кинофильм – показать, какой хороший порядок в его лагере. Отобрали группу узников, дали им чемоданы. Демонстрировали все по порядку – как арестованные зашли в ворота концлагеря, как прошли регистрацию, как их вежливо встретили гестаповцы, как культурно провели санобработку. Из барака отправили в баню, выдали обувь, каждому дали пальто. В бане мылись теплой водой. Мыло, мочалка, полотенце, белье – все, как положено, ну и так далее. Продемонстрировали, как в концлагере содержатся дети. Посреди барака доставили два больших стола, накрыли их чистыми простынями. С обеих сторон поставили по скамейке. На столы поставили мисочки с супом, рядом положили ложки, по большому куску хлеба, по кружке молока и по кусочку хлеба, намазанному повидлом. Отобрали ребятишек 15-20. Попали в эту группу и мы с младшей сестрой. Нас предупредили, как нужно себя вести – сесть за стол, без команды ничего не брать, есть неспеша. За столом мы сидели минут десять, пока кинооператор устанавливал освещение и аппаратуру. Сидим и смотрим на пищу – кажется, так бы и съел все в один миг. Наконец, раздалась команда: «Ешьте!». Мы мигом набросились на еду. Съемка, наверное, шла минуты две. Мы ели и думали, что отберут. Нам разрешили доесть все.
Спустя недели две нам этот фильм показали. Мы видели на экране себя. Если бы этот фильм показали сейчас, то можно было бы подумать, что так было в действительности. Комендант мог похвастаться своим лагерем в Германии.
В конце октября от большого истощения мы с сестрой Ниной заболели. Я заболел корью и дизентерией. Чувствовалось сильное утомление, недомогание и головокружение, как-то все стало безразлично.
Видя наше состояние, родители очень обеспокоились, что нас могут отправить в детский барак. Они скрывали, что мы больны, да и эсэсовцы редко заглядывали на четвертый этаж нар.
В конце октября – начале ноября, чтобы избавиться от лишних хлопот, из лагеря некоторых детей стали отпускать домой. Приезжали родственники, представители волостей, монахини Рижского Свято-Троице-Сергиевского женского православного монастыря и забирали детей из лагеря.
Уехали дети из Мердзенской волости, и в их числе – мой друг Леня Анисимов. Затем приехали представители из Бригской, Пасиенской волостей – на этот раз уехал мой друг Женя Межецкий. Тетя из Риги забрала Янину и Фриду Голубцовых. Не скрою, я им завидовал и считал счастливчиками – ведь они останутся живы и будут жить дома.
Мои родители очень беспокоились, что нас, больных, домой не отправят. Мать и старшая сестра стали просить начальство, чтобы им разрешили работать на кухне. Иногда им это удавалось. Они тайком понемногу приносили хлеб – поддержать нас. Через некоторое время мы немного окрепли, стали понемножку двигаться.
20 декабря 1943 года в обеденный перерыв, когда все собрались в барак на обед, один из работников комендатуры огласил список детей Пасиенской волости, которые сегодня уедут домой. Я услышал свою фамилию, имя и имя своей сестры Нины, которая тоже была очень больна.
Мы и наши родители были безмерно рады, что мы живыми покидаем этот адский лагерь и возвращаемся домой.
Но в то же время было и грустно. Никто не знал, навсегда ли мы расстаемся с родителями и когда встретимся.
После обеда уезжающим и провожающим нужно было выстроиться у барака. Провожать разрешалось одному человеку – родственнику: матери, отцу или сестре. Меня с сестрой Ниной провожали мама и двоюродный брат Петя Сырцов.
Детям с собой разрешалось взять личные вещи. Детей и провожающих привели на площадь к комендатуре лагеря. Мать и двоюродный брат Петя (ему было 16 лет) вели меня и Нину под руки и несли небольшой узелок. Когда пришли на площадь, увидели – стоит сплошная цепь эсэсовцев. По ту сторону находились представители Пасиенской волости, приехавшие за нами. Одна из них была Адольфина Кигитович, другого мы не знали.
Стали по списку вызывать детей. Вызванный с вещами должен был пройти через строй эсэсовцев – для обыска. Обыск каждого ребенка производил один эсэсовец. Обыскивали очень тщательно. Выворачивали карманы, развязывали узелки. Лучшие вещи отбирали. Кого проверили, те собирали свои вещи и проходили через строй на повозки. Родные стали прощаться. Эсэсовцы настолько увлеклись обыском, что потеряли бдительность. Так в этот день из лагеря совершили побег три человека: Петя Сырцов (16 лет), Генрих Стефанович (14 лет) и Нина Стефанович (15 лет). Моя мать решила, что это самый подходивши момент для побега. Она незаметно сняла нарукавный номер Пети и сказала ему: «Иди, помоги Ване собрать вещи и вместе с ним иди на повозку". Пете удалось это сделать.
Рядом была семья Стефанович из Пасиенской волости. По списку их дети – Аня трех лет, Мартин девяти лет и Регина тринадцати лет - должны были уехать домой. Их провожали отец, мать, брат Генрих тринадцати лет и пятнадцатилетняя сестра Нина. Их в списках не было. Увидев, что Петя совершил побег, их родители в этой суматохе отравили на повозку Нину и Генриха. Так в этот день из лагеря совершили побег три человека. Нас всех на лошадях увезли на станцию Саласпилс.
Когда мы ехали на станцию мимо парка, недалеко от шоссе Рига-Даугавпилс видели много изможденных людей. Одежда на них была оборвана, на ноги накручены портянки без ботинок. У деревьев, что росли вокруг, была обглодана кора. Сопровождающие нам объяснили, что здесь лагерь военнопленных, они и объели кору с деревьев.
На станцию Саласпилс нас привезли к вечеру. На следующий день в полдень мы были уже в Зилупе. До своей деревни Хорошево надо было добираться еще 12 километров, а детям Стефанович еще дальше – 17.
Передвигались мы с большим трудом, с частыми передышками. Силы были на исходе, мучил голод. Свои скудные пожитки мы спрятали под кустом, чтобы не нести. С трудом преодолели два-три километра дороги. Был декабрь, мороз, время уже к вечеру. Мы сидели на обочине дороги, на снегу. Замерзли - одежда и обувь у нас были летние. Решили, что зайдем в какой-нибудь дом, попросимся переночевать. Может, и покормят, а завтра за день как- нибудь доберемся. Вдруг видим – со стороны Зилупе на лошади едет какой-то мужик. Увидев нас, изученных детей, на обочине дороги в столь поздний час, он остановил лошадь и спросил, куда мм идем и кто наши родители. Мы все рассказали. Оказалось, он хорошо знал наших родителей. Посадил нас в сани и привез домой.
Было уже темно. В доме не было света. Мы хотели открыть дверь, но она оказалась заперта изнутри. Мы не знали, что в нашем доме живет наша тетя Мария. На наш стук в дверь услышали голос: «Кто там стучит в такой поздний час?». Мы объясняем, что это Нина, Ваня и Петя приехали домой из концлагеря. Тетя была в недоумении, но когда открыла дверь, зажгла лампу и увидела нас – вот это была встреча! Она нас сразу умыла, накормила – правда, не досыта - и уложила спать. Оказалось, когда нас увезли из дома, кто-то сообщил об этом нашей тете. Она пришла жить в наш дом и сохранила хозяйство.
Мы были больны корью. Нижнего белья у нас уже давно не было – его сожгли в лагере. Тело чесалось настолько, что на теле образовались гнойники, к которым прилипала верхняя одежда. На следующий день тетя истопила баню, мы хорошо помылись в теплой воде, которой не видели четыре месяца. Надели чистое белье. Через несколько дней тетя Мария отвела нас в Пасиене, к врачу. Врач был немец. Он прописал какую-то вонючую мазь. Через месяц мы более или менее пришли в норму.
Через несколько дней после того, как нас отправили домой, родителей отправили из лагеря в Германию на принудительные работы. Увезли в Германию нашего отца, мать и старшую сестру Соню.
Привезли их в город Эрфурт – на распределительный пункт. Потом – в город Триполис. Жили в бараке. Отец и сестра. Они работали на фабрике, на токарных станках. Мать не работала, она была больна. Отец рассказал о своем особом положении работающему рядом немцу: «Жена моя больна, а в Латвии остались двое малолетних детей». Немец написал письмо в Берлин, описал всю обстановку. В марте 1944 года из Берлина пришел ответ. «Сырцову Геновефу отпустить домой, поскольку она работать не может, а в Латвии у нее несовершеннолетние дети». Так мать вернулась домой.
Отец и сестра остались работать. В апреле 1945 года их освободили американские войска. Всех иностранцев американские специальные службы собрали в общие лагеря. Провели регистрацию и в конце мая передали их в советскую зону. В советской зоне в Германии распределили в фильтрационные лагеря. Там произвели сортировку. Определили по республикам. Провели дознание: кто такие, откуда, куда и зачем...
После сортировки погрузили в товарные эшелоны и отправили домой. В этом эшелоне находились люди из разных стран, поэтому он следовал через Польшу, Литву, Белоруссию, Украину, через Москву и Ленинград. В Латвию приехали человек десять. Домой они вернулись 25 июля 1945 года...
Тамару Осикову, живущую в области на территории Хоперского заповедника, можно смело заносить в Красную книгу как редкий и исчезающий вид. Она одна из немногих, кто способна рассказать о Равенсбрюк, где почти два года была узницей.
На вчера, 4 мая, у Тамары Николаевны выпал юбилейный день рождения. Столько их уже было в ее жизни, что и праздновать неудобно - 90 лет. В поселке Варварино Новохоперского района, где она живет последние десять лет, сейчас благодать. Сквозь огромные сосны снопами пробивается солнце, кругом заливаются птицы и полыхают тюльпаны. Мошки еще нет, а комары только вечером. Воздух, напоенный медовыми и хвойными ароматами, можно, кажется, пить. Младшая дочь Наталья - сама уже давно бабушка - ставит стульчик возле дома, усаживает Тамару Николаевну, гладит по руке: «Отдыхай, мамочка» . Палочка возле стула, на коленях узкие руки, с длинными узловатыми пальцами, ласковый ветер треплет седые волосы, а солнце разглаживает глубокие морщины. Глаза, уставшие от долгой жизни, почти не видят. Тамара Николаевна слушает птиц, подставляет лицо солнышку и вспоминает. За такую долгую жизнь много чего было. И война, и победа, и любовь, и предательство. Родились дети, да что там - внуки совсем взрослые. Их успехами она теперь живет, огорчается их поражениям. Ее жизнь - вчерашний день, давно перевернутая страница. Чего о ней вспоминать-то? Но дети просят.
…То был, наверное, самый яркий день рождения в ее жизни. Ей исполнилось 23 года. За несколько дней до того охрана концлагеря Равенсбрюк, где Тамара значилась под номером 23267, выгнала всех заключенных из бараков и велела построиться на плацу. Женщины забивались под кровати, прятались по углам, бились в истерике - для них несанкционированное построение могло означать только одно, массовый расстрел. Тогда охранники заколотили все окна и двери, облили бараки бензином, обещая поджечь. Толпа женщин в полосатых серо-синих платьях понуро высыпала на плац. Тамара вцепилась в руку своей подруги Тамары Кузьминой, с которой не расставалась с тех пор, как оказалась в Германии, и решила: будь что будет. Сколько людей было в лагере, она не помнит. Около 60 тыс., кажется. Их вывели за ворота, построили в колонны и повели по дороге. Конвоировали немцы с автоматами и собаками. Людей прибывало, их выводили из соседних лагерей. Рядом оказались мужчины. Поляки, французы. Они почти не разговаривали - живой поток безмолвно лился по дороге, сколько хватало глаз. Стемнело. Колонна сделала привал, все разбрелись по посадкам вдоль дороги. Когда заключенных стали собирать, две Тамары так и остались сидеть, прижавшись к дереву. Искать их не стали. Все ушли, и наступила ночь. Девчонки не успели порадоваться своему спасению, как начался бой. Буквально через их головы с диким свистом полетели залпы «Катюш». «От свиста сводило все внутренности, - вспоминает Тамара Николаевна. - Утешала солдатская мудрость - пока слышишь, как свистит снаряд или пуля - они не твои» . Девчонки дожили до утра, когда залпы стихли, вышли из своего убежища и пошли вдоль хилого лесочка. Прошли совсем немного и наткнулись на пустое имение. Немецкие фермеры, жившие в доме, бежали, видно, в последнюю минуту. В сараях хрюкали свиньи, мычали коровы. В доме было полно еды и одежды.
«Первым делом мы сорвали с себя ненавистную лагерную форму , опостылевшие за почти два года панталоны на веревочках, полосатые платья и пиджаки, - рассказывает Тамара Николаевна. - В шкафах и сундуках оказались невероятной легкости и красоты платья. Шелковые, ласкающие кожу. Удобные и красивые туфельки. Мы нагрели воду, нашли душистое мыло и с наслаждением стали смывать и отскребать с себя всю лагерную грязь. Ужас, усталость и отчаяние уходили с мыльными потоками. Мы переоделись и заглянули в зеркала, которых не видели, казалось, целую вечность. Оказалось, что мы все те же девчонки - молодые и хорошенькие. Пусть вместо былых кудрей по пояс - короткий ежик, да просвечивали ребра, а на лице остались одни глаза, но мы живые. Живые!»
Справка « »: Равенсбрюк располагался на северо-востоке Германии, в 90 км от Берлина. Лагерь существовал с мая 1939-го до конца апреля 1945 года. Перед началом войны немцы ездили в ГУЛАГ, чтобы перенять опыт организации подобного рода учреждений. Число зарегистрированных заключенных - более 130 тыс. По разным оценкам, в Равенсбрюке скончались и были казнены от 50 до 92 тыс. женщин.
На ферме девчонки прожили несколько дней. Туда пришли такие же, как они, беглецы. Вспомнили про Тамарин день рождения, о котором она забыла на всю войну. «Ах, какой был пир, - улыбается сейчас бабушка. - Зажарили кабанчика, наварили картошки. Пожалуй, никогда - ни до, ни после - я не была такой счастливой».
Может, таково вообще свойство человеческой памяти, может, именно Тамары Николаевны особенность, но из прошлого она помнит почти только хорошее. Ей было 19 лет, когда началась война. Она окончила три курса химико-механического техникума. Семья жила в Славянске, провинциальном городке Донецкой области. «Мы ютились во флигеле с соломенной крышей, - вспоминает Тамара Николаевна. - Когда начались бомбежки, вырыли окопчик прямо посреди дома, под родительской кроватью. Набросали туда подушек, перин и, как только слышали гул приближающихся самолетов, прыгали туда. Страшно было до ужаса, но Бог миловал».
В Донбасс пришли фашисты и стали угонять молодежь - для работы на пользу «великого рейха». До поры до времени Тамаре удавалось скрываться от облав, прячась у тетки на окраине, но из гестапо передали: «Не появишься сама, угоним мать». На руках у той - двое маленьких детей. Выбора у Тамары не было, и она отправилась на вокзал. Осенью 1942 года их построили на вокзальной площади, пересчитали и засунули в «телячьи» вагоны. Там, на вокзале, она повстречала свою землячку и тезку - Кузьмину. До конца войны они не разлучались. Возможно, потому им и удалось выжить, что они постоянно чувствовали поддержку друг друга.
«Мы ехали послушные, как овцы, - вспоминает бабушка. - Чем нас кормили, как долго мы ехали, - не помню. Приехали в какой-то город. Помню, меня поразили красные перины, которые сушились на балконах. Нас привезли в жандармерию и стали распределять по семьям. Всем немцам, у кого кто-то был на войне, полагалась прислуга. Нас с Тамарой забрали две сестры. Они жили в соседних домах. Мне с хозяйкой повезло. Ее звали Марией - добрая простая женщина с грудным ребенком на руках. Жили они вместе со свекром. На мне была домашняя работа - уборка, готовка, стирка. Причем Мария работала со мной наравне и всему меня научила. До сих пор помню, как она отбеливала белье. Не кипятила, а мариновала его на солнце. Положит на траву, зальет водой и переворачивает. Очень чистое белье получалось. Первым делом она подарила мне фартук и хорошие ботиночки. Научила меня правильно хозяйствовать, подавать на гарнир копченую сливу. У меня до сих пор немецкий порядок в шкафах. Ничего плохого не могу сказать о своих хозяевах - я ела с ними за одним столом и то же самое, что и они. Немцы никогда не обижали меня ни словом, ни поступком. Однажды им пришла похоронка, к которой была приложена карта с указанием места, где убили их сына и мужа. Но отношение ко мне не изменилось. Они только говорили, что, когда закончится война - Германия разобьет Советы, поедут навестить могилку. А меня возьмут в качестве проводника. Тяжело мне было такое слушать, и тайком я, конечно, плакала».
Тезке повезло меньше. Ее хозяева оказались людьми вспыльчивыми и сердитыми. Они заставляли ее работать без роздыха, изводя придирками. К тому же там были дети-подростки, которые откровенно над ней издевались. Пару месяцев девушки прожили в немецких семьях, а под Рождество получили весточку от своих землячек, с которыми ехали в Германию тем же эшелоном. Девушки работали на фабрике неподалеку и умудрились передать Тамарам письмо. В письме были стихи, что-то вроде того, что не плачьте, девчонки, война скоро закончится, и поедем с победой домой. Безобидное, по сути, письмо сыграло с Тамарами злую шутку. Их забрали сначала в жандармерию, а потом и вовсе посадили в тюрьму. «Чистенькая такая тюрьма, - улыбается Тамара Николаевна, - удобная, с туалетом. Хозяйка на дорогу собрала мне большую коробку бутербродов и несколько пар обуви. В концлагере мне оставили только одни ботиночки - кожаные, на шнурочках. Они меня здорово выручили - все били ноги в деревянных сабо, которые выдавали узникам, а я два года проходила в крепкой и удобной обуви» . Через несколько дней девушек отправили в едва ли не самый известный женский лагерь Второй мировой войны - Равенсбрюк.
«В лагере у нас забрали вещи и повели в баню. Такая огромная комната, в которой с потолка лилась вода. Мы с Тамарой боялись потерять друг друга и почти все время держались за руки. Потом нас побрили под машинку, выдали одежду с порядковым номером на рукаве и отправили в барак. Там стояли трехярусные кровати, с которых мы каждый день по сигналу «Подъем!» в пять утра прыгали вниз для построения. Мы с Тамарой спали вместе, так было теплее. Заключенных строили по порядковым номерам, развод проводили женщины-надзирательницы. Они ходили в юбках-брюках, вооруженные нагайками и собаками. Военнопленные жили отдельно. Мы их почти не видели - на работу их не водили. Во дворе, при входе стояла огромная печь. Мы знали, что крематорий, что там жгут людей. Из печи почти всегда валил дым. Мы страшно боялись заболеть, потому что знали: главное здешнее лекарство от всех болезней - печь. Один раз моя подруга заболела, но ей быстро удалось выкарабкаться - она уложилась в отведенные для болезни пять дней».
Девушек отобрали на работу в гальванический цех на авиационный завод. Точнее, отобрали Тамару - у нее были изящные руки, а работа требовала мелкой моторики. А вторая Тамара сделала шаг вперед, попросившись работать с подругой, и ей разрешили. Девушки хромировали мелкие детали, опуская их в ванну с кислотой. Уже после войны выяснилось, что от паров кислоты у Тамары Николаевны полностью разложилась перегородка носа. Но тогда девушки радовались, как им повезло.
Контролировал работу пожилой немец, который относился к ним с сочувствием. Он проверял качество вполглаза. Видимо, сам был антифашистом, поэтому не замечал их легких попыток саботажа. А однажды на Пасху принес им два кексика, завернутых в красивую подарочную бумагу. Дарил какие-то журналы на английском. Но за время войны Тамара не то что на английском, даже на русском читать разучилась.
Тамара Николаевна не помнит, как их кормили: «Голода я не чувствовала. Не били, не обижали. И вообще за все то время, что я была в Германии, прикоснулись ко мне только один раз, когда брили голову» . После освобождения из концлагеря две Тамары работали в одной из частей, стоявших на территории Германии, - опять стирали, зашивали, готовили. Но, понятно, с другим настроем. Потом поехали домой. Ехали через Берлин, мимо Рейхстага, который весь был исписан надписями на родном языке. Домой возвращались с трофеями. Тамара - с небольшим чемоданчиком, в котором была почти невесомая шубка, несколько восхитительных платьев, пара кофточек и нижнее белье. В Польше сделали небольшую остановку, за время которой девушка умудрилась сделать себе прическу - химическую завивку.
«Может, память у меня такая счастливая, - сама себе удивляется бабушка, - может, и правда за моей спиной всегда стояли ангелы. И после войны обошли меня несчастья. А ведь для тех, кто пережил немецкие лагеря, был прямой путь - в наши». Особисты ее, конечно, тягали. Почти три года прожила Тамара Николаевна в Германии, тут и за месяц, проведенный на оккупированной территории, можно было загреметь на всю жизнь в вечную, так сказать, мерзлоту. Но она честно излагала следователям свою биографию. Раза три или пять. Как жила у немецкой хозяйки, как попала в лагерь. И прислушивалась потом по ночам, когда за ней придут. Почему-то не пришли. После войны Тамара окончила техникум, 33 года проработала конструктором на химзаводе в Константиновке. Два раза вышла замуж и оба раза - за Василиев. Обе дочки - Лида и Наташа - с одинаковыми отчествами, хоть и от разных отцов. У тех уже свои взрослые дети - ее трое внуков. Недавно она перебралась с Украины поближе к младшей, которая работает в Хоперском заповеднике вместе с зятем. В 60 лет, после смерти второго мужа, Тамара Николаевна стала вышивать иконы. За четверть века вышила их более сорока. Большинство из них были освящены и украсили несколько храмов Донецкой области и несколько церквей Новохоперского района. «Я, как принялась вышивать иконы, - рассказывает бабушка, - так опять счастливой стала. Вышиваю, и так мне хорошо - ни грустно, ни одиноко, а только светло и радостно. Жаль, что мои собственные глаза мне служить перестали, но хорошую память о себе я уже оставила».
На Кубани проживают 9000 бывших узников фашистских концлагерей, в том числе около 600 - в Краснодаре. «Югополис» попросил двоих из них воскресить похороненные в памяти воспоминания о страшных годах, проведенных на «фабриках смерти».
Обе наши героини - Лилия Тихоновна Хоминец и Елена Николаевна Колесникова – родились в Витебской области Белоруссии. Именно с вторжения в эту республику началась Великая Отечественная война. Несчастная Белоруссия находилась в оккупации с самых первых дней войны и до июля 1944 года. За годы Великой Отечественной она потеряла каждого третьего своего жителя. Многие из них погибли в концентрационных лагерях.
Лилии Тихоновне и Елене Николаевне было очень больно еще раз мысленно переживать ужасы плена, за что мы искренне просим у них прощения, но они нашли в себе мужество рассказать о том, о чем забывать нельзя.
Лилия Тихоновна Хоминец

Я родилась в Витебске в 1937 году. Папа, Тихон Николаевич Соколов, трудился на кирпичном заводе, мама, Татьяна Леонтьевна, была домохозяйкой, сидела с детьми. Нас было пятеро: четыре девочки, один мальчик, я самая младшая.
В финскую войну папу призвали, его ранили, он долго пролежал в снегу, обморозил ноги, лечился в госпитале. А когда началась Великая Отечественная, сразу ушел на фронт.
11 июля 1941 года началась трехлетняя оккупация Витебска. Под властью фашистов город находился почти три года - с 11 июля 1941 года по 26 июня 1944-го. Мы с мамой сначала жили в городской квартире, а потом уехали к бабушке с дедушкой в деревню Остряне под Витебском. Все местные мужчины, не призванные на фронт, но способные держать оружие, ушли в партизаны. Осенью в деревне начались облавы. Гитлеровцы ходили по домам и забирали все, что им приглянулось - от безделушки до скота. Дедушка, пытавшийся защитить дворового пса, погиб от шальной пули: пока немец прогонял перегородившего ему дорогу деда в самодельной инвалидной коляске, пес прыгнул ему на спину и вцепился в шею. Фриц от испуга нажал на курок автомата и стал беспорядочно стрелять. Все это произошло на глазах у бабушки, она после смерти мужа слегла.
Сказать по правде, в годы оккупации вреда больше было от полицаев, чем от немцев. Переметнувшиеся на сторону фашистов местные, пытаясь выслужиться, шли на любые подлости, предательства, зверства.
В декабре 1942 года один такой полицай – сосед, хорошо знавший нашу семью, вместе с немецким офицером вошел в бабушкину хату, где в это время находились все мы. Старшая, 14-летняя Нина, читала нам, младшим, сказки. Бабушка и мама крутились по хозяйству. Сосед указал на Нину. Немец взглянул на нее и отмахнулся: «kinder» - сестра была маленькой и худенькой. «Какой же она ребенок, - встал руки в боки полицай. – Ей скоро пятнадцать», и дернул Нину с кровати за руку. Она споткнулась и упала перед входной дверью. Позже мама рассказывала, что она заметила, как немец отошел чуть в сторону и подмигнул Нине, указывая на дверь – мол, беги. Она вскочила, и в чем была – шерстяных носках на босу ногу и в платье без рукавов – выскочила во двор.
Сосед погнался за ней, повалил на снег, ударил прикладом, а затем схватил за косу и потянул со двора на дорогу, по которой уже шли деревенские ребята, ее ровесники. Мама, выбежавшая вслед за полицаем, только и успела, что схватить с веревки сохнущую бабушкину кофту и кинуть ее вслед дочери.
И больше мы ничего не слышали о Нине до самого 1946 года, думали, погибла в концлагере. Но оказалось, что она в лагере не была – ей удалось сбежать по дороге.
Сестра рассказала, что детей пригнали на железнодорожную станцию в Витебск и погрузили в вагоны-теплушки. Нину с другими ребятами посадили в последний вагон. Он был настолько ветхим, что через щели задувал ледяной ветер. Чтобы согреться, дети начали прыгать. В какой-то момент под ними затрещал пол. Мальчик постарше несколько раз с силой ударил по доске ногой. Доска отвалилась. Ребята расширили дыру и через нее, помогая друг другу, стали спрыгивать на шпалы.
Нина и еще одна девочка тоже решили сбежать. Прыгая, сестра ударилась пятками о шпалы, но толстые носки и калоши, которые ей кто-то дал, смягчили удар. Правда, калоши тут же слетели, так что сестра снова осталась босой. Она лежала на шпалах до тех пор, пока вдалеке не стих стук поезда – боялась, что охранник, сидевший в тамбуре последнего вагона, заметит ее. Потом поднялась – ночь, вокруг лес - и побежала по рельсам в обратном направлении. Через несколько минут увидела девочку из поезда – та бежала ей навстречу: при падении ударилась головой и потеряла ориентацию. Они обнялись как родные. Девочку звали Зоей, она была из Вильнюса.
Пока не было поездов, бежали по шпалам, как только слышали звук приближающегося состава, скрывались в лесу. Через несколько дней вышли к поляне, на которой стояла изба и пара сараев. Заметили пожилую женщину с ведрами. Та увидела их, подошла: «Цо надо, москалки?» По ее говору девочки поняли, что они в Польше. Старушка отвела их в хату, дала горячей похлебки, принесла старое пальто, которое досталось Зое, и прохудившийся шерстяной платок, которым перевязалась Нина. Подходящей обуви у бабушки не нашлось. Вручив им сверток с горячей картошкой, она велела девочкам уходить: «Вокруг немцы».
И те снова побежали. Как долго они шли, Нина не могла сказать. Но потом снова вышли на поляну, обрадовались – думали, очередной хутор. И только тут заметили немецких солдат, выстроивших в шеренгу стариков. Девочки кинулись бежать, но их догнали, под дулом автомата погнали на поляну и толкнули в шеренгу стариков, стоявших на краю небольшого оврага. Нина оказалась с краю цепочки.
Вдруг дедушка, опирающийся на палку, оттолкнул ее плечом себе за спину, и тут же раздались выстрелы. На девочку обрушились несколько тел, увлекаемая ими, она полетела в овраг.
Потеряла сознание. Когда пришла в себя, поняла, что цела, но не может выбраться из-под тел – не хватало сил. Снова потеряла сознание. Очнулась от звука русской речи: «Командир, здесь девка живая!» Оказалось, трое связистов шли мимо, искали порванный провод, один из них заметил торчащую из оврага руку девочки. Они вытащили Нину и забрали с собой в часть. А Зоя погибла.

Нину отправили в госпиталь, где после короткого лечения она стала помогать врачам и медсестрам ухаживать за больными. Потом приняла присягу и перешла в роту связи, бойцы которой вытащили ее из оврага. С ней она дошла до границы с Германией, после чего роту погрузили в поезд и отправили на Дальний Восток на войну с Японией.
Нина тоже думала, что нас нет в живых. Когда она спросила у связистов о судьбе деревни Остряне, те сказали, что от нее больше ничего не осталось: дома разбомбили, а местных жителей расстреляли или угнали в концлагерь.
Так оно и было. После того как угнали Нину, мы прятались в лесу. В марте 1943 года немцы проводили облаву и нашли нас. Бабушку, маму, меня, 8-летнего брата Гену, 10-летнюю Любу и 12-летнюю Валентину привезли на вокзал, бросили в поезд вместе с другими местными жителями и отправили в неизвестном направлении.
Первым моим лагерем стал Майданек. Крематории здесь работали круглосуточно.
Когда поезд остановился, нас выгнали из вагонов, женщин и детей отогнали в одну сторону, стариков - в другую. Бабушку мы больше не видели.
Нас построили на плацу перед виселицами. Через несколько минут из барака вывели пятерых избитых мужчин. Они шли босиком, в одних белых кальсонах.
Это были советские военнопленные, пытавшиеся сбежать из лагеря. Когда им набросили веревки на шею, мама развернула нас с братом к себе, ткнула лицом в подол и держала, пока шла казнь.
Бараков было много – все длинные, человек на 150-200, трехъярусные и двухъярусные деревянные кровати с соломой вместо матрасов. Поначалу мы с мамой, братом и сестрами жили в одном бараке, потом нас с братом переселили в детский. Но маме разрешали нас иногда навещать.
Дети до 10 лет в лагере ничего не делали. Единственной нашей обязанностью было присматривать за младшими детьми. И все. Нас не пересчитывали. Вызывали по утрам на площадку перед бараком и проверяли, кто остался внутри. Оставались только больные. Их тут же забирали, назад они никогда не возвращались.
Кормили нас один раз в день маленьким кусочком хлеба, в котором было процентов семьдесят древесных опилок, и баландой. Из чего ее готовили? Картофельные очистки, кусочки брюквы, моркови, жилы каких-то животных.
Когда приносили железный бочонок с похлебкой, мы выстраивались в шеренгу, держа наготове миски. Смотрительница барака – капо – следила за тем, как нам разливают баланду. Когда дошла моя очередь, я заметила, что в черпаке, которым мне только что налили похлебку, остался кусочек моркови. Я потянулась за ним, но в следующую секунду получила удар железным прутом по пальцам. Удар был такой силы, что мне почти отрубило безымянный палец.
Я выронила миску, расплескав баланду по полу, обхватила больной палец левой рукой, отскочила в сторону. Но не заплакала, знала, что будет только хуже. Однажды на наших глазах капо избила своим стеком мальчика постарше меня, и его, мертвого, вынесли из барака.
Я забилась под нары и просидела там целый день, поскуливая от боли. Вечером пришла мама – ей кто-то сказал, что со мной случилась. Она принесла подорожник, палочки, раздобыла где-то чистый лоскут. Приложила подорожник к пальцу, вокруг него – палочки, служившие шинами, перевязала лоскутом. Каждый день меняла повязку и, не поверите, палец сросся! Только – видите? – немного синий в месте разреза.
Мы пробыли в Майданеке не больше шести месяцев, а потом нас снова посадили в вагоны и повезли. Примерно 10 месяцев мы скитались по разным лагерям Европы, большую часть времени проводя в дороге и по нескольку дней или недель – на новом месте. Запомнила, что были в Чехословакии, Венгрии, Бессарабии.
Однажды поезд остановился в каком-то населенном пункте, наш вагон с женщинами и детьми отцепили, оставили в тупике, а состав двинулся дальше. Нас выгнали из вагона, отвели на площадку, велели сесть на землю. В этот момент пошел сильный дождь, земля тут же превратилась в грязь. Мы долго сидели, а потом увидели местных женщин, по разговору поняли, что находимся в Болгарии.
Они принесли вареную кукурузу, пытались передать ее нам, но охрана не позволила. Тогда женщины стали бросать ее нам. Мальчишки повзрослее и посильнее ловили ее, некоторые дрались между собой за початок, а гитлеровцы смотрели на это и ржали. Нам, малышам, кукурузы не досталось. Мы подбирали с земли зерна, подставляли ладони под струи дождя, а потом запихивали зерна в рот.
Но были настолько голодными, что не дожидались, пока полностью смоется грязь, и проглатывали кукурузу вместе с ней. С тех пор я ни разу не ела вареную кукурузу, и когда вижу ее в продаже, рот тут же наполняется песком.
Потом нас снова погрузили в вагон, конечной остановкой стала Вена. Нас высадили и пешком повели в лагерь, который размещался глубоко в горах, в лесу. Это был Линдабрун (30 км от Вены), в котором мы провели следующий год. Недалеко от него стоял еще один концлагерь, намного больше по размеру – Энцесфельд. А между ними был расположен городок, жители которого, пока нас гнали по улице, смотрели на нас с презрением. Тут нам уже никто кукурузки не подал. На каждом здании висело объявление о том, что за пойманного заключенного полагается вознаграждение в 4 дойчемарки.
В Линдабруне стояли два барака – женский и детский, ни мужчин, ни юношей в лагере не было. Из охраны – всего четверо часовых на вышках. Но мы никуда не делись бы и без них: вокруг дремучий лес и неизвестно, в какой стороне наши войска, а внизу город, жители которого не проявили бы к нам милосердия. Так что бежать было некуда.
Каждый день чуть свет нас гнали на работу в лес – женщины пилили деревья, дети собирали хворост и листья. После нас делянка должна была быть чистой как стол – ни одного листочка или иголки. Возвращались в лагерь часов в десять вечера и тут же валились спать.



Денис Яковлев / Югополис
Никакой душевой или бани не было. Мылись мы и стирали, когда шел дождь – выбегали из бараков, стягивали с себя тряпье и подставляли худые тела струям воды. Грязь и зола были вместо мыла.
Кормили нас тем же хлебом из опилок и баландой и еще напитком, который они называли кофе: его варили из жженых зерен ячменя или овса. Давали к нему сахарин и еще какой-то порошок, назначение которого мне не известно по сей день. Весной 1945 года мы заболели непонятной болезнью, похожей на оспу. Возможно, это она и была.
К весне 45-го женщины спилили все деревья около лагеря и ушли дальше в лес. Нас, 8-10-летних стали оставлять в лагере. Мы драили полы и наводили порядок в бараках. А однажды, как я потом узнала, на лютеранскую Пасху, к нам приехала какая-то немка или австрийка и привезла корзину с яблоками и мешок с детской одеждой.
Мне достался свитер, я натянула его и увидела дырку на животе с запекшейся вокруг кровью. Сразу поняла, что в этом свитере до меня ходил другой ребенок. Его убили, а одежду забрали.
Гостья, заметив дырку на свитере, приказа мне закрыть ее ладонью. Она достала фотоаппарат и стала снимать, как солдаты раздают нам яблоки.
Одежду нам оставили. А примерно через месяц мы заболели. Лицо, шея, уши, тело покрылось какими-то язвами, но мы боялись жаловаться смотрителям, потому что больных отправляли в госпиталь Энцесфельда, из него уже никто не возвращался. Поэтому мы молча шли на работы.
Потом пришел солдат, принес полведра какой-то черной жижи и большую малярную кисть. Показал нам – мажьте места язв. Тут подходит другой и, макнув кисть в ведро, мажет нас от макушки до пят. Не знаю, помогла эта жижа или нет, но в нашем бараке к моменту моего прибытия в лагерь было 42 ребенка, а при освобождении осталось 20.

Washingtonpost.com
Детей, которых больше не брали на работы в лес, вообще не кормили. Мы пробавлялись тем, что нам оставляли взрослые – их кормили два раза в день. Вместе с мастером участка в лес уходило трое часовых. Если на посту оставался молодой австриец, он спускался с вышки, открывал ворота и разрешал нам ходить в лес «кормиться». Мы собирали дикие яблоки, ягоды, грибы, заячью капусту. По возвращении в лагерь часовой разводил костер, вешал над ним ведро с водой и, когда она закипала, мы бросали в него все свои находки. Так что не знаю, что в результате получалось – борщ или компот.
Потом всех нас пригнали в Энцесфельд, где мы прожили примерно полтора месяца. Женщин гоняли на работу на какой-то шинный завод за город. Если они шли ночью, охрана заставляла их снимать деревянную обувь – клумпы, чтобы их стук не мешал спать местным жителям.
Дети моего возраста и младше не работали, а брата забирали на работу на склад, где он сортировал обувь – находил одинаковые пары, связывал их и складывал на стеллаж. В первый раз, вернувшись со склада, он рассказал, какие красивые детские сандалии ему попались. Я спросила, почему же он не принес их мне, а он только вздохнул и пообещал, что после войны папа купит мне много красивых туфель и платьев с оборочками. Такие сказки он рассказывал мне часто, я под них засыпала.
В Энцесфельде было много маленьких детей – 2-3-летних. Здоровых и хорошеньких за деньги выкупали бесплодные австрийские пары, некоторых отправляли в немецкие детские сады.
Уверена, в Австрии и Германии живет много русских, поляков, французов, уверенных в своем арийском происхождении.
Над старшими детьми в лагере иногда ставили опыты. У нас в бараке один угол все время был занавешен тканью. За ней стояла кровать, на которой лежал мальчик лет четырнадцати, запомнила, что его звали так же, как моего брата, – Гена. Лагерщики ему вживую ломали ноги, обвязывали их чем-то и приносили на носилках в барак. Он кричал днями и ночами, и какими бы все уставшими после работ ни были, никто не мог уснуть из-за этих криков. Но как только он затихал, его снова уносили, ломали ноги уже в другом месте и возвращали назад. Так было раз пять, наверное, потом нас снова перевели в Линдабрун, и я не знаю, что стало с этим мальчиком.
Заключенных концлагерей освобождала Красная Армия и союзные войска. А нас никто не освобождал. Каждое утро наш барак отпирали, мы выходили во двор и строились для проверки.
А однажды за нами никто не пришел. Солнце было уже высоко, а барак стоял закрытым. Сначала мы запаниковали – думали, нас хотят сжечь.
Один мальчишка залез по стропилам на крышу, огляделся, сообщил, что часовых нет, лагерь пустой. Открыть нас снаружи он не смог – сил не хватило. Тогда мы выломали доски в стене. Высыпали во двор. Действительно, никого нет. Побежали к соседнему бараку, где шумели женщины, открыли дверь.
Полдня мы просидели на одном месте, гадая, что происходит. А потом решили идти в город – вряд ли будет хуже. Шли через лес несколько часов, вышли к дороге… и встали как вкопанные: смотрим, по дороге на велосипедах и повозках едут русские солдаты. Увидев нас – худющих женщин в полосатых халатах и детей в разномастном тряпье, они тоже остановились, пораженные. Тут кто-то из солдат заговорил с нами по-русски, мы ответили, и уже в следующую секунду все обнимались и плакали. Я не поняла, как на моей маме оказался мужской пиджак, а в руках у брата – солдатская пилотка, полная рафинада. Это было 4 июня 1945 года. День нашего освобождения.
Через пару дней нас привезли на фильтрационный пункт – здесь проходили проверку совершеннолетние узники. После проверки нашу семью отпустили.

Вернулись в Витебск через полтора месяца. Наш дом разбомбили, и мама повезла нас в деревню. Но и бабушкиного дома тоже не было – от него остался угол и большая яма - воронка от снаряда. Мама со старшими детьми выкопали яму пошире, сверху закрыли ее бревнами. Засадили огород, с него питались до осени.
А потом вернулся отец. Мама глазам своим не поверила, когда увидела его, идущего к нам через поле. Он посмотрел на наше житье, велел собрать пожитки, и мы пошли на железнодорожный вокзал. Папа забрал нас в свою военную часть в Литву.
В 1947 году отец умер – дали о себе знать ранения, полученные в Финскую и Великую Отечественную. Мама осталась жить и работать при части, подняла всех нас на ноги.
Я выросла, вышла замуж. Мой муж, военный летчик Виктор Васильевич Хоминец, - коренной краснодарец. После его демобилизации мы сюда переехали. Я устроилась бухгалтером сначала на завод по производству соков, потом на ФФЗ, оттуда вышла на пенсию.
С 1995 года я возглавляю Карасунскую окружную общественную организацию «Непокоренные». У меня две дочери, два внука и два правнука. Брат Гена и сестра Валентина живы, остальные сестры умерли.
Дочь в 2015 году была в Австрии. Спросила гида, можно ли съездить в лагерь Линдабрун. Гид сообщила, что такого лагеря не знает, а городок Линдабрун имеется. Дочка наняла такси и вместе с гидом поехала туда. Город как из сказки – аккуратные разноцветные домики с палисадниками, цветы и зелень вокруг. Дочь стала спрашивать местных про лагерь, но никто ничего о нем не слышал.
Одна жительница посоветовала обратиться к старику, который жил на самом краю городка, может, он знает. Этот старик сказал: да, был лагерь – далеко, в лесу. Но это было «так давно, так некрасиво, не надо об этом говорить, не надо это помнить». И все.
Елена Николаевна Колесникова

В архивной справке Государственного отдела Витебской области Белорусской ССР написано: «В документах архивного фонда отдела по репатриации и переселению граждан Витебского облисполкома в списках лиц, вернувшихся из немецкой неволи в 1945 году по Витебскому району, значится семья в составе: Селезнева Мария Николаевна, 1925 г.р., Селезнева Елена Николаевна, 1927 г.р. Время пребывания в неволе в документе не указано. Для сведения сообщаем, что в списках лиц, репатриированных из Германии граждан, значится также семья Смоляковых. 6 марта 1944 года принудительно вывезены в Германию. 11 февраля 1945 года освобождены частями Красной Армии».
Елена Николаевна – это я, Мария Николаевна – старшая сестра. Смоляковы – родной брат мамы и его жена. Нас вместе угнали в Германию.
Я родилась в Витебской области, в деревне Старинки. Папа, Николай Максимович, был специалистом по выработке льна, мама, Дарья Кузьминична, – заведующая молочно-товарной фермой, партийная.
7 июля 1941 года в нашей деревне уже были немцы. Мы собрали кое-какие вещи и ушли в лес, так же поступили и многие наши соседи. Немцы леса боялись, там было много партизан. По ночам мы ходили в деревню, работали в саду и в огороде, не хотели оставлять урожай. Однажды полицаи устроили облаву. Мы с папой и сестрой успели спрятаться, а маму поймали и расстреляли. После этого мы ушли в лес и уже не возвращались.
В лесу нельзя было жечь костры – по дыму нас вычислили бы в два счета. Поэтому питались сырыми овощами и фруктами.
В начале марта 1944-го немцы окружили лес и выгнали нас оттуда. Папа идти уже не мог – простудился в землянке, болел. Они там его бросили, а меня с сестрой, дядей, тетей и другими жителями деревни пригнали на железнодорожный вокзал. Гитлеровцы, разграбившие наши музеи и картинные галереи, намеревались вывезти эти богатства в Германию.
Чтобы поезд по дороге не взорвали партизаны, они посадили нас в вагоны с музейными экспонатами. И партизаны поезд не тронули.
Мы ехали без остановок. В Штутгарте-на-Одере нам велели сойти, здесь, неподалеку от города, в лесу, стоял лагерь смерти. Я увидела печи для сжигания людей. Пепел ссыпали прямо в реку.
Нас раздели, приказали вымыться, выдали полосатые халаты женщинам и штаны мужчинам. Нас четверых поселили вместе в одном бараке. Здесь жили еще несколько семей, всего человек шестнадцать, наверное. Примерно через неделю после приезда в нашем бараке кто-то сделал подкоп. Человека нашли и заживо сожгли. А потом выстроили нас всех во дворе и приказали сделать шаг вперед тем, кто знал о подкопе и не сообщил тюремщикам. Никто не признался. Тогда надсмотрщик достал пистолет и расстрелял каждого пятого в шеренге. Мы вчетвером стояли вместе, рядом с нами – семейная пара. Немец с пистолетом прошел мимо нас, а мужа беременной женщины убил, он был пятым.
Каждый день взрослых гоняли на работы в лес. Дядя был садоводом, и ему поручили засадить лагерь деревьями, чтобы еще больше замаскировать его сверху.
У нас с сестрой брали кровь для немецких солдат и офицеров, поэтому к работам нас не привлекали. Сколько брали и как часто? Да сколько и когда требовалось. Никто не следил за тем, чтобы прошло два-три месяца с последней кровосдачи. Часто из людей полностью выкачивали кровь, а тела сжигали.
Кормили нас хлебом с опилками, когда нужна была кровь, давали баланду. И все.
Чаще всего сжигали детей. Печи находились под землей, только трубы из земли торчали. Лагерщик подзывал к себе заключенного, тот делал пару шагов и проваливался в огонь.
Нас освободила Красная Армия. Потом мы работали в военной части вольнонаемными. Ухаживали за коровами, стирали, готовили. Детей и подростков, которые хорошо говорили по-немецки, наши военные просили общаться с местными детьми – наши войска продвигались к Берлину. Мы таким образом предотвратили не одну диверсию фашистов. Немецкие ребятишки, уверенные в том, что мы немцы, доверительно делились с нами сведениями, которые слышали от родителей.
Мы были при части до 16 августа 1945 года, проверку и регистрацию прошли во Франкфурте-на-Одере. Потом меня отправили в Казань работать на секретном химическом заводе. База была под землей, на ней разрабатывали взрывоопасные газы. В Казани я вступила в комсомол и закончила техникум.
В начале 1946-го в Казани обосновался авиационный полк. В один из вечеров я познакомилась с Евгением Колесниковым, мы стали встречаться, и вскоре поженились.
С мужем-военным я объехала пол-Европы, меняя части. Через много лет муж уволился в звании подполковника, мы переехали с двумя дочками в Краснодар.
Муж умер в 2012 году, ему был 91 год.
Уходят в мир иной последние свидетели минувшей мировой трагедии.
Вниманию читателей газеты “Севская правда” предлагаю воспоминания малолетних узников фашистских концлагерей, написанных собственноручно через полвека после окончания Великой Отечественной войны. Большого труда стоило уговорить мать Евгению Григорьевну и ее сестру Александру Григорьевну оставить в семье записи о том жутком времени.
Макухина (Шилина) Евгения Григорьевна
"Начну с того, как я оказалась в Германии. 1 марта 1943 года в Севск вступили советские войска. Шли бои, а мы сидели в блиндажах. А когда через несколько дней окраину, где я жила (да и сейчас пока там живу) снова заняли немцы, отодвинув наши войска к центру города, то нас выгнали немцы из домов и под конвоем погнали в сторону запада.
Не буду описывать маршрут, как нас гнали. Таким образом я, мои родители и младшая сестра оказались в Черниговской области в селе Покошичи Понорницкого района. Там всех нас поселили в школе. Давали нам на еду немного картошки и немного ячменной муки, из которой пекли на костре лепешки. Иногда ходили в деревню попрошайничать, но давали что-нибудь неохотно.
А когда начался очередной набор для отправки в Германию, то севских забрали в первую очередь. Отвезли нас на железнодорожную станцию. Так мы оказались в товарных вагонах, на полу которых лежало немного соломы. Вагоны были накрепко закрыты, так что мы ничего не могли видеть. На пустырях состав останавливался, двери вагонов открывали, и под охраной немцев разрешалось выходить всем по надобности. В такое время украинские ребята умудрялись скрыться, оставив свои сумки с провизией (хлеб, сало) в вагонах. Это все доставалось нам, севским, так как у нас совсем ничего не было из еды.
Угнали севских 33 человека, а до конечного лагеря доехало только 9 человек, т.к. по дороге, где останавливался состав в городах (названий городов не знаю), мы проходили санобработку, а затем приезжали "покупатели" и отбирали себе работников видных и крепких. Мы выглядели хилыми, измотавшись за дорогу, поэтому нас никто не брал. Так мы доехали до города Рендебурга, к которому примыкала деревня Бюдельсдорф. Снова санобработка. Затем привезли в лагерь (он располагался в этой же деревне), выстроили в шеренгу и сразу выдали темнокрасные круглые жетоны с номерами и квадратные матерчатые с бело-голубыми полосками, а в средине было написано "ost". Эти номера и нашивки мы должны были прикреплять на груди и носить, не снимая, так как мы там не имели ни имен, ни фамилий, а только номер. Мой номер был (как мне помнится) 953.
В лагере от нас забрали к хозяину одну севскую девочку - Аню Чикиневу. Она иногда приходила к нам в лагерь, т.к. работала в этой же деревне. Поселили нас в барак с двухярусными деревянными кроватями (если можно так назвать), на которых лежал матрац, сотканный из ниток упаковочного тонкого бумажного шпагата, набитого древесной стружкой, точно такая же подушка и два байковых тонких одеяла. Около, вернее, между кроватями, стоял небольшой шкаф, а посреди комнаты стояла чугунная печка, которая топилась зимой угольным брикетом. В комнате нас было 14 человек.
На второй день снова санобработка - прожаривали в спецпечах нашу одежду, в которой мы прибыли в лагерь. Обрабатывали чем-то с очень неприятным запахом, просто нечем было дышать. Затем нам выдали рабочие комбинезоны х/б и шелковые трикотажные шапочки (это чтобы волосы не попали в колесо станка). Такая одежда нам служила зимой и летом, только еще для зимы выдавали брезентовые ботинки на деревянной подошве, а летом давали один раз туфли из утиля. Мне достался на левую ногу размер 36-й, а на правую 37-й, да еще и разной модели.
Потом нас распределили кого куда. Троих из севских оставили в лагере на разных работах, паренька Володю Бобысова (он был с матерью) забрали в городской мужской лагерь, а остальных на завод, который был расположен в этой же деревне.
На этом заводе было основных два цеха - литейный и цех, где выпускали крылья для самолетов. Я с Шурой Ченчиковой попала в цех, где выпускали крылья для самолетов. Работали клепальщицами. Но, Боже упаси, неправильно заклепать заклепку, ведь это брак (а в понятии немцев, это специально сделано). А как сделаешь хорошо, если в слабых руках пневматический молоток не слушался... Давался нагоняй в виде топота ногами и крика бригадира-немца. Правда, иногда он это делал для видимости окружающих, а по натуре неплохой, т.к. время от времени доставал из кармана, чтобы никто не видел, по картофелине в мундире и давал нам с Шурой.
Работали мы с 6 утра и до 6 вечера с перерывом на обед 1 час. На обед ходили в лагерь строем под охраной. Лагерь был большой, обнесенный металлической толстой сеткой с острыми концами наверху, а внутри еще была площадь, огороженная такой же изгородью, где находились военнопленные итальянцы. В этом лагере были украинцы, поляки - военнопленные, но они ходили свободно, без надзора, в своей военной форме, но только с нашивкой на груди, вот такой “Р” темной окраски, а работали они тоже на заводе.
За работу нам ничего не платили, а стали платить к концу 1944 года. Помню, выдали нам в руки по конверту, а в конверте одна марка и одна монетка (достоинства ее не помню, то ли 10 или 15 пфен). Я с Шурой выполняла одну и ту же работу, а получила меньше ее на несколько пфеннингов. Когда мы спросили у бригадира, почему так, то он ответил, что платят по возрасту, хотя я и она родились в одном году, только она в марте, а я в декабре.
А кормили нас так вот: утром пустой кофе - и на работу, на обед баланда, сваренная из очисток от картофеля, чищенного машиной, да еще и глазки от этой же картошки удаляли ножами с острым концом, и все это шло в наше варево, а чистый картофель, видимо, шел на другие цели, или из брюквы, или из кислой капусты. Все это заправлялось водой из городского колбасного цеха, где обваривалась колбаса, а то и просто варили на пустой воде.
А однажды нам дали в обед такое кушанье, что мы сразу и не разобрали, что это такое, а когда рассмотрели, то там было что-то похожее на лягушачьих головастиков. Ребята нам сказали, чтобы мы перевернули миски вверх дном. Мы так и сделали, все это поплыло на пол, а мы из столовой ушли. А перед выходом на работу после обеда нас выстроили и начали над нами топотать ногами и кричать, что мы свиньи русские. За это в наказание мы лишились вечернего пайка.
А паек вечером был такой: получали столовую ложку сахарного песка, 15-20 грамм маргарина и 5 скибочек хлеба (150 г.), но они были такие тонкие, что через них можно было видеть, что делается за 50 метров. И как только немцы умудрялись так резать. Да еще вечером давали кипяток. При такой еде мы настолько обессилели, что только хотелось спать. И вот приходили с работы, получали свой паек, съедали и ложились спать. Старались иногда две скибочки хлеба оставлять на утро, но тогда сон не шел на ум, тогда съедали остальной хлеб и засыпали.
Воскресенье было выходным днем. Нас поднимали и вели в кино (2 раза в месяц) в город. Фильмы были на немецком языке.
Но стоило сесть на деревянный стул, типа кресла, как мы тут же засыпали и спали весь сеанс (часа полтора), а когда кончался сеанс, раздавалась команда вставать, мы просыпались и шли в лагерь под охраной. В воскресенье на обед получали по две картофелины (с небольшое куриное яйцо) в мундире и вареную синюю капусту - это считалось вкуснейшим обедом, после которого можно было идти в барак и ложиться спать.
А летом в воскресенье гоняли купаться на канал. Хочешь, не хочешь, а раздевайся и лезь в воду. А как полезешь, если от недомогания на берегу голова кружится. Но заходили для видимости в воду (а вода была очень холодная) и тут же выходили, как только надзиратель-немец удалялся вдоль берега на другой конец своего маршрута.
Зимой в бараках в каждой комнате топили печки-чугунки, но угольного брикета давали столько, что приходилось воровать на заводе, да еще пронести так, чтобы не обнаружили на проходной, т.к. за каждую провинность на заводе тут же оставляли работать во вторую смену, но уже в литейном цеху. Вот где ад. Мало того, что там жара нестерпимая, да еще такой дым и смрад, что на расстоянии двух шагов не видели друг друга. Делали там какие-то формы из песка, перемешанного с мазутом, и вот когда их задвигали в печь для обжига, то из печей шел такой дым, что нечем было дышать. Когда в цеху, где я работала, не было работы, то меня отправили в литейный цех. Думала, что не выдержу и это уже конец. Проработала я там одну неделю, а потом вернули на свою работу. За эту неделю уже дошла до того, что есть уже не хотелось, а спать уже не могла, болела голова, и от дыма резали глаза, а утром, почти не спавши, снова на работу.
А летом 1944 года, когда на заводе не стало работы, то нас четырех девчонок отправили к фермеру на полевые работы. Работали с 6 утра и до заката солнца, но там хотя кормили неплохо. А вот работать было трудно, т.к. у меня пошли нарывы по ногам, видимо, от удобрений. Хозяйка давала ихтиоловую мазь, но это мало помогало, а, вернувшись в лагерь, меня положили в санчасть, так как я не могла совсем ходить - надулась подошва левой ноги, и там собрался гной. Подошву разрезали, всю сняли, расчистили, я пролежала месяц.
Усадьба у фермера была большая, но нигде никакой захламленности, все по своим местам. Было у него 150 дойных коров, большая свиноферма, птицеферма, всякие сельхозмашины, рабочие и выездные лошади. Большой дом в 2 этажа, а вокруг домики кирпичные, покрытые черепицей, где жили работники: 2 бельгийца, 2 голландца, 4 парня с западной Украины (ухаживали и доили коров), а остальные поляки, русские, белорусы. И кругом идеальная чистота и порядок, и множество цветов. Даже на заводе по стенам цехов вились мелкие розочки по шнурочкам.
Жила у фермера пара, муж с женой - она белоруска, а он русский, и вот когда мы оттуда уезжали (от фермера), то они нам обещали собрать сухариков. Но как переправить? И вот однажды я и Наташа Шаврицка (украинка) прорыли ночью в субботу под проволоку проход, а в воскресенье, чуть свет, отправились в поместье фермера - это 20-25 км от лагеря. Шли проселочной дорогой и к обеду добрались. Пробыли там 2 часа, накормили и отдали собранные сухарики. Надо было еще зайти к хозяйке. Она нас приняла хорошо и дала в дорогу буханочку хлеба, и мы, распрощавшись, двинулись в обратный путь. Добрались только к вечеру, когда уже стемнело. А через полчаса после нашего возвращения пришел в комнату полицейский и забрал Наташу неизвестно за что.
Я дрожала и ждала, что и меня заберут, но не забрали. А на второй день я с Любой Деркач (украинка) работали во вторую смену, а с утра выпросили у лагерной переводчицы пропуск, чтобы выйти из лагеря, и отправились в полицейский участок (он находился в этой деревне) узнать про Наташу, но там нам объяснили, чтобы мы уходили и больше не появлялись, а то и нам возврата не будет. А через 2 месяца Наташа возвратилась в лагерь. Оказалось, что она с одной из своих землячек из другого города переписывалась и в письме написала, что на заводе работы нет, и что завтра отправят к фермеру, а цензура истолковала это как работу агента.
Время шло к зиме 1944 года. И только тогда нам выдали по фланелевому платью и сорочке, всем одного размера, а кому не подходило, то перешивали сами, а вот чулок нам не давали, все это заменял рабочий комбинезон, в платках ходить не разрешалось. А зима там была такая, как у нас в конце ноября и начало декабря, только не было снега. А если когда зимой выпадал снег утром, то к обеду уже не было снега. Вот в такой одежде и по такому холоду мы и ходили.
В 1944 году одну неделю пришлось работать на складах, где приходилось разгружать вагоны с пшеницей, рожью, сахаром-сырцом. С нашей комнаты работало нас трое, и уходя с работы, мы понемногу брали зерна или сахара, насыпали в рукава своих курточек, предварительно завязав рукава, чтобы не просыпалось, закидывали за спину и таким образом проносили в лагерь (тут мы шли без охраны). Зерно запаривали на чугунке, добавляли сахар, все это делили на всех 14 человек и расходились в свой угол и потихоньку ели, озираясь, чтобы не захватил во время еды охранник, который все время маршировал по дорожкам около бараков.
Жили в комнате мирно и дружно, даже брюкву или капусту, которую можно было купить в магазине (через поляков), делили на всех и еще старались сунуть под сетку из этих овощей пленным итальянцам.
А в конце апреля 1945 г. нас опять же троих из комнаты отправили работать на другие продуктовые военные склады. Их было шесть трехэтажных и по площади очень большие. И вот в первый же день я съела пачку маргарина - 250 граммов. На пустой желудок. Мне стало плохо, девочки едва меня дотащили до лагеря, а ночью я думала, что кончусь, но видно не судьба была умереть. Ведь у немцев признавались болячки, что были снаружи, типа нарыва или чесотки, а что там у тебя внутри - их не интересовало.
А дня через три пришлось перетирать копченую колбасу, и тут я не удержалась от соблазна - наелась колбасы, да так, что потом лет 25 совсем на нее не смотрела. Но украсть на этом складе ничего было нельзя, так как нужно было идти через проходную, а там обыскивали, чуть ли не донага раздевая. Так мы проработали там, когда до окончания войны оставались считанные дни.
А 7 мая бомбили город. Но когда 8 мая мы пошли на работу на эти же склады, то увидели, что город не пострадал, а были разрушены эти склады. Когда мы пришли в тот склад, где работали, то немец, что всегда на работе присматривал за нами, сказал нам: "Берите бумажные мешки, накладывайте в них что хотите, лишь бы донесли, и идите в лагерь. Мы засомневались, но набрали колбасы, консервов, сало-шпик. Вышли. На проходной нас никто не остановил. По городу люди шли как обычно, как будто ничего и не произошло. В лагерь мы зашли тоже свободно, даже на проходной не обратил вахтер внимания, что у нас за спиной мешки.
А 9 мая нас на работу не погнали, а ребята пробрались в город, все там разузнали и, придя в лагерь (охрана уже была снята), рассказали, что на крышах домов висят белые флаги, и что мы вернемся на родину, и в то же время страх оттого, что немцы могли взорвать лагерь. Но ничего этого не произошло. Лагерь охранялся англо-американскими солдатами. Полный месяц мы на работу не ходили, стали получше кормить.
А через месяц нас стали вывозить на машинах для передачи нашим властям. По дороге нам давали сухой паек, а на ночь останавливались там, где были картофельные посевы, и тогда мы варили суп. Ночевали под открытым небом. А уже наши власти везли нас на уборку урожая. Я была на уборке зерновых в восточной Пруссии. Кормили нас там с солдатской кухни. Потом перебросили еще в какое-то местечко на уборку. Там я заболела, не знаю что со мной было, только страшно болела голова и распух язык так, что во рту не вмещался. Из санчасти давали какие-то таблетки, через две недели полегчало, и там я прошла особый отдел и получила справку, с которой я должна была явиться в органы НКВД по месту жительства. Что по приезду и сделала.
Приехала я в Севск в первой половине ноября 1945 года. Если бы у меня был календарь 1945 года, то точно бы назвала число, так как помню, что это было воскресенье. И еще: в лагере было бомбоубежище, вход в которое был из лагеря, а само убежище за лагерем, но сама я ни разу в нем не была. Когда нас поднимали по сигналу воздушной тревоги, то мы с Шурой укрывались с головой одеялом и никуда не шли. А на заводе в цеху был надзиратель-полицейский. Был такой огромный с суровым лицом, с огромной блестящей кокардой на фуражке. И как только он заходил в цех, его сразу все видели. Проходил по цеху и шел в туалет, чтобы выгнать оттуда спящих. Это когда уже совсем не было сил работать, то шли вроде как в туалет, садились на закрытые “очки” и засыпали. Он выгонял, ничего не говоря, а когда после смены шли через проходную, то он стоял и по номеру отстранял в сторону провинившихся, чтобы отправить в литейный цех в ночную смену в наказание. И эти его маршруты по цеху повторялись чуть ли не каждый день. А мы, зная, что за это будет, все равно в туалете засыпали.
Приносили в лагерь газету на русском языке, но в основном там были розыски друг друга, находящихся в Германии. Такая газета попала и мне в руки, где моя сестра разыскивала меня. Я обратилась к лагерной переводчице и она мне помогла. Долго ждала первого письма. Так мы нашли друг друга. Получила я всего три или четыре письма. А потом получила последнее, где она написала, что письмо больше не дойдет, я догадалась и заглянула вовнутрь конверта, там мелкими буквами было написано: "они бегут". Да и это понятно было потому, что с нами стали помягче обращаться. Но это уже было в начале 1945 года.
Были и такие дни, в основном зимой, когда в цехе не было работы, нас забирали из цеха и мы, дрожа от холода, на улице собирали весь день какие-то железяки, лишь бы не быть без работы.
Но всего на бумаге не опишешь, да еще через 50 лет. Другим это все покажется простым, да и никому это уже, наверное, не надо».
Куценко (Шилина) Александра Григорьевна
"Когда начинаешь вспоминать, на душе так тяжело становится, как вроде снова это будешь переживать. Недавно меня пригласили в райсобес, заполнить "бумагу", как и при каких обстоятельствах я попала в фашистский лагерь. Я думала, не выдержу, уйду и мне ничего не надо. Но все-таки нашлись силы кое-что рассказать, хотя о главном забыла, вспомнила уже дома. Все эти годы мы старались забывать, а сейчас вспоминать. Конечно, если бы рассказать очно, можно было многое вспомнить, на бумаге этого не опишешь. Что я могу сказать?
Как нас угоняли в Германию, мама рассказала, погрузили в товарные вагоны, охрана, на больших станциях вагоны не открывали, поэтому мы не знали, какие города проезжали. Поезд останавливался в безлюдном месте, выпускали людей, так сказать, по "нужде", охрана следила. Вот так и везли до какого-то лагеря.
Поместили нас в лагерь за колючей проволокой. Помнится, ходили в баню, затем была медицинская комиссия. Здесь мы узнали точно, кто прошел медкомиссию - в Германию, кто нет (т.е. признан больным) - будут отправлять назад. Меня поместили в барак больных, а маму из этого лагеря угнали в Германию.
Не помню, сколько я пробыла в этом лагере, но сильно заболела, что-то было с кишечником, медпомощь не оказывалась. Здесь я встретилась с девушкой Зиной Разуваевой из Новозыбкова, она обо мне заботилась, спали на нарах на соломе. Прошли слухи, Красная Армия продвигается к западу, обратно больных не повезут. Мелькнула мысль: расстреляют. Но в один день, без всяких медкомиссий, нас выгнали из бараков, открыли ворота и с охраной повезли к поезду. Очень много людей оставалось в этом лагере. Мы не расставались с Зиной. Несколько человек привезли на биржу труда в город Лигниц. Там было очень много людей. Владельцы заводов, фабрик, помещики выбирали себе работников. К нам подошел мужчина, окинул взглядом (в нашей куче было человек пять) и посчитал указательным пальцем - раз, два, достаточно. В эту "компанию" вошла Зина и девушка из Белоруссии Аня Краскович. Я оставалась одна без подруги. Начали плакать, реветь. Что тронуло этого помещика, до сих пор не знаю. То ли наши слезы, то ли то, что я на немецком языке сказала: "Возьмите меня, это моя двоюродная сестра, я умею доить коров ". Коров, конечно, я не умела доить, но беда заставила соврать. К тому времени я могла как-то общаться на немецком языке.
Этот бауэр привез нас в деревню Алтлест, Зину и Аню забрали другие помещики, а меня, хилую, худую, пришлось оставить у этого хозяина. По всей вероятности, никто не хотел брать, а девать некуда. Вот так я осталась в неволе. У хозяина (Вальтер Кох) было небольшое хозяйство, по сравнению с другими помещиками из деревни. Кроме меня, был еще один работник, украинец. Но я с ним мало общалась. Начало утра: дойка коров, уборка навоза, кормят скот, и в поле.
Завтрак, обед, ужин - отдельно от хозяев, за отдельным столом. Вечером, когда возвращались обратно, опять та же самая работа. Спали в отдельных комнатушках, если можно так назвать, на чердаке.
После ужина хозяин шел за нами закрывал на ключ "мою" комнату, комнату работника. А утром - открывал. Работа для меня была очень трудная, болели руки, голова. Хозяин не мог видеть работника отдыхающим. Ведь целыми днями на поле жара. В выходной день работали до обеда, потом давали отдых до вечера, а вечером опять доить коров, кормить скот.
В выходной день, т.е. во время свободных часов, мы встречались с соотечественниками. Но время бежало так быстро, надвигалась опять каторга. Иногда в выходной день хозяин давал увольнительную, сходить в кино в районный городок. Это где-то километра 3-4 от деревни. Обязательно на груди одежды была нашивка ost ("OST " означало "Остарбайтер " (с немецкого Ostarbeiter - работник с Востока).
На зиму хозяин сдал меня на биржу труда. Зимой меньше работы, вроде такого работника, как я, держать не следует, а подруги мои остались в деревне. Из биржи меня определили на снарядный завод. Когда я впервые вошла в цех, сразу мелькнула мысль, не выживу, тем более поместили в какое-то общежитие, все незнакомые люди.
Начальница расспросила меня, кто я, откуда, где работала. Первый вопрос: "Русская? ". Я всегда говорила: "Да, я русская ". Я не меняла национальность, хотя при нас никаких документов не было, одни номера и нашивки. Меня прикрепили к каким-то станкам убирать стружки, подметать. Но, только нельзя было стоять без дела, владелец завода и его жена находилась как бы на помосте, всех рабочих они видели. Как я поняла, на этом заводе только обрабатывались гильзы и потом пустые отправлялись. На этом заводе работали украинцы, французы, поляки, немцы.
Очень плохо кормили, особенно нас, из Союза. Я очень хорошо запомнила длинный стол. Каждая нация сидела отдельно. Обед: пять маленьких картофелин в кожуре и что-то запить, кусочек хлеба. Очень часто французы на наш стол приносили еду, пока начальство обедает. Я была по росту и возрасту самая незаметная. Одна немка приносила мне бутербродики, даже как-то пригласила в гости, дала мне поношенную одежду. В общежитии девчонки меня научили, как добывать пищу, чтобы не умереть: “Делай так: выходишь на улицу, встретишь женщину-немку, и вежливо спроси: "У вас, нет ли лишней карточки на хлеб? ". Часто давали, другие говорили нет, семья большая, а третьи смотрели свысока, злобно. Сначала я очень боялась спрашивать, а потом осмелилась. По карточкам можно было получить хлеб в любом магазине. Все равно это питание было мизерным. Все время хотелось есть, кружилась голова. От слабости дрожали руки, ноги. Одна мысль - лечь и закрыть глаза. Утром на работу ползла совершенно голодная, ждешь этого несчастного обеда. Вот так изо дня в день.
На лето хозяин снова забрал к себе. Я была настолько худая, немощная, даже не могла кулак сжать, чтобы подоить коров. И опять все та же система. Конечно, питание здесь было лучше, но тяжело. Когда работала на заводе, через газету нашла Женю, делала запрос. Адрес переслали мне девочки. В это время я была уже в деревне. Тут я воспрянула духом, началась переписка, письма шли часто.
Плюс к этому начали доноситься слухи, наступление нашей армии продвигается. Вот и стали ждать. По-моему, в январе 1945-го все немцы эвакуировались в западную Германию. Многие забрали своих работников. Не знаю, зачем и для чего. Ведь все хозяйство оставалось на местах. Деревня опустела. Из работников-иностранцев остались в деревне вроде трое - я, Аня и еще какой-то юноша. Кое-какие старички. Прятались в подвале, когда в деревне были немецкие войска. Потом услышали залпы орудий, русскую речь.
Вот на этом закончился этап. Нас отправили в особый отдел, допросы, записи. Затем направили меня и Аню в военный эвакогоспиталь, где проработала до ноября 1945 года. Затем опять лагерь репатриированных. Возвратилась домой, по-моему, зимой. В общем, прожили без вины виноватые...
Владимир МАКУХИН.
В ходе пресс-конференции, глава региона сообщил, что в 2019 году почти 50 000 га земли, заросших деревьями, будут снова введены в оборот.21.08.2019 Унечская газета 21 августа состоялась рабочая встреча заместителя председателя Государственной Думы ФС РФ Сергея Неверова и Губернатора Брянской области Александра Богомаза.
21.08.2019 Администрация области Заместитель председателя Государственной Думы С. Неверов посетил первый в России региональный предуниверсарий, который откроется 1 сентября.
22.08.2019 Газета Ударник
1 сентября в Брянске откроется первый в стране предуниверсарий. Здесь будут обучаться школьники, решившую связать свою жизнь с медициной.
22.08.2019
Газета Жуковские новости
Брянская городская администрация поздравляет брянцев с Днём российского флага.
22.08.2019
Администрация
В данный момент объект готов на 95%
В этом году в Брянской области будет построена и капитально отремонтировано свыше 630 км автомобильных дорог.
22.08.2019
БрянскToday.Ru
Счастливой обладательницей сертификата стала жительница брянского Стародуба, вдова участника ВОВ Л. Е. Бушма.
22.08.2019
Газета Восход
Строители приступили к ремонту старой кровли на дошкольных образовательных учреждениях – Локотском детском саду №3 и Погребском детском саду Брасовского района Брянской области.
22.08.2019
Газета Восход
Ко Дню Государственного флага России в городской библиотеке прошло мероприятие «Душа России в символах её».
22.08.2019
Унечская газета
27 апреля исполнилось 75 лет со дня открытия печально известного фашистского концлагеря Освенцим (Аушвиц), который за не полных пять лет своего существования уничтожил около 1 400 000 человек. Этот пост в очередной раз напомнит нам о преступлениях, совершенных нацистами в годы Второй мировой войны, о которых мы не вправе забывать.
Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года и включал в себя три лагеря: Аушвиц-1, Аушвиц-2 (Биркенау) и Аушвиц-3. На протяжении двух лет количество заключенных варьировалось от 13 тыс. до 16 тыс., а к 1942 году достигло 20 тыс. человек
Симона Вайль, почетный президент Фонда памяти Шоа, Париж, Франция, бывшая узница Освенцима: «Мы работали более 12 часов в день на тяжелых земляных работах, которые, как оказалось, были большей частью бесполезными. Нас почти не кормили. Но все же наша судьба была еще не самой худшей. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 000 евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них отправили в газовую камеру» Шесть дней в неделю все без исключения должны были работать. От тяжелых условий работы за первые три-четыре месяца умирало около 80% заключенных.

Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный №79414: «2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей прибывающих в лагерь заключенных. Часть из нас занималась разборкой прибывавших вещей, другие - сортировкой, а третья группа - упаковкой для отправки в Германию. Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться - так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки - Лани»
У всех прибывающих в лагерь отбиралось имущество, вплоть до зубных коронок, из которых выплавляли до 12 кг золота в сутки. Для их извлечения была создана специальная группа из 40 человек.

На фото женщины и дети на железнодорожной платформе Биркенау, известной как «рампа». Депортированные евреи проходили здесь селекцию: одних сразу же посылали на смерть (обычно тех, кого признавали негодными к работе,- детей, стариков, женщин), других отправляли в лагерь.

Лагерь был создан по приказу рейсфюрера СС Генриха Гиммлера (на фото). Он приезжал в Освенцим несколько раз, инспектируя лагеря, а также отдавая приказы по их расширению. Так, именно по его приказу лагерь был расширен в марте 1941 года, а уже спустя пять месяцев поступило распоряжение «подготовить лагерь для массового уничтожения европейских евреев и разработать соответствующие методы умерщвления»: 3 сентября 1941 года для уничтожения людей был впервые использован газ. В июле 1942 года Гимлер лично демонстрировал его использование на узниках Аушвица-2. Весной 1944 года Гимлер приехал в лагерь со своей последней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных цыган.

Шломо Венезия, бывший узник Освенцима: «Две самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600–1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда»

Для нарушителей дисциплины были предусмотрены различные наказания. Кого-то помещали в камеры, находиться в которых можно было только стоя. Провинившийся должен был стоять так всю ночь. Существовали и герметичные камеры - находящийся там задыхался от недостатка кислорода. Широко были распространены пытки и показательные расстрелы.

Всех заключенных концлагеря делили на категории. У каждой была своя нашивка на одежде: политических заключенных обозначали красными треугольниками, преступников - зелеными, свидетелей Иеговы - лиловыми, гомосексуалистов - розовыми, евреям, помимо всего, следовало носить желтый треугольник.

Станислава Лещинская, польская акушерка, бывшая узница Освенцима: «До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца уносили в комнату, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами».

Давид Сурес, один из заключенных Освенцима: «Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще десять человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция -кастрация»

Освенцим стал печально знаменит во многом благодаря медицинским экспериментам, которые в его стенах проводил доктор Йозеф Менгеле. После чудовищных «опытов» по кастрации, стерилизации, облучению жизнь несчастных заканчивалась в газовых камерах. Жертвами Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он уделял близнецам и карликам. Из 3 тыс. близнецов, прошедших через опыты в Освенциме, выжило лишь 200 детей.

К 1943 году в лагере сложилась группа сопротивления. Она, в частности, помогала многим бежать. За всю историю лагеря было совершено около 700 попыток побега, 300 из которых были успешными. Чтобы предотвратить новые попытки побега, было решено арестовывать и отправлять в лагеря всех родственников убежавшего, а всех заключенных из его блока убивать.

На фото: советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из концлагеря
На территории комплекса было уничтожено около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных, которых немцы не успели перевести во время эвакуации в другие лагеря.

В 1947 году Сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц--Биркенау.