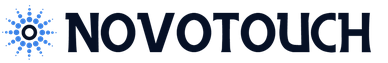Русское дворянство аристократы в эмиграции и сейчас. Париж — русский плавильный котел. Париж, зеркало русской эмиграции
Правообладатель иллюстрации Getty Images
Одними из главных жертв Октябрьской революции стали представители русской аристократии. Многие из них после 1917 года навсегда покинули Россию или погибли в ходе репрессий, однако и сегодня в России есть потомки дворян, которые пытаются хранить старые сословные традиции и ценности.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Алексей Ильин поговорил о судьбе русского дворянства с американским историком, автором книги "Бывшие люди: последние дни русской аристократии" Дугласом Смитом , а также с членами Российского дворянского собрания.
Би-би-си: После революции дворянск ое сословие был о фактически объявлено вне закона. Многие представители аристократии покинули Россию. А что стало с теми, кто решил остаться или не смог уехать? Как они выживали в новых условиях?
Дуглас Смит: Многие из тех дворян, которые остались в Советском Союзе, покинули крупные города, такие как Москва и Петроград, и отправились в сельскую местность. Там у них были усадьбы и хозяйства, где можно было добывать себе еду, ведь с этим были большие проблемы.
Многих представителей аристократии периодически арестовывали, некоторых брали в заложники во время Гражданской войны. Конечно, это были очень тяжелые времена для тех, кто остался, новый режим воспринимал их как классовых врагов, контрреволюционеров, вне зависимости от того, чем они занимались. Огромное число этих людей не пережили первые два года после революции.

Би-би-си: Пытались ли представители дворянства сохранить свои культурные и сословные традиции после падения Российской империи?
Д.С.: Честного говоря, я не думаю, что после большевистского переворота большинство оставшихся в России дворян в первую очередь задумывались о вопросах сохранения образа жизни, привычек, традиций, практик, которые их выделяли как аристократический класс. Думаю, что в то время на первый план вставал вопрос выживания.
Конечно, они прекрасно понимали, кто они, понимали свое место в истории страны и возникшие перед ними опасности, но мало кто задумывался о том, чтобы не потерять связь с определенными традициями и привычками, главное для них было просто выжить. Они старались поддерживать друг друга, не терять контакты с представителями своего класса, чтобы существовать в новой суровой реальности.
Би-би-си: Как русские дворяне жили в эмиграции? Сложно ли им было привыкнуть к новым условиям, новому образу жизни вдали от родины?
Д.С.: В большинстве случаев они находили способы приспособиться к новым условиям, хоть это было и непросто. Важно отметить тот факт, что никто из них не думал, что большевики надолго останутся у власти. Большинство тех дворян, которые уехали на Запад или в Харбин, верили в то, что скоро они смогут вернуться.
Поначалу многие эмигранты были очень бедны, так как они не могли увезти с собой все свои сбережения и ценности, но они были хорошо образованы, говорили на нескольких языках, владели определенными навыками, которые помогали им продолжать жить достойно. Однако как бы ни была тяжела жизнь в эмиграции, эти проблемы не идут ни в какие сравнение с теми трудностями, которые переживали дворяне, оставшиеся в России.

Media playback is unsupported on your device
Сергей Самыгин: "Дворянские роды брали пример с царской семьи"Би-би-си: Были ли попытки вернуться в Россию? И были ли случаи, когда советские власти пытались вернуть дворян из эмиграции?
Д.С.: Да, советские власти проводили секретные операции, чтобы заставить эмигрантов вернуться, и в большинстве случаев судьба вернувшихся назад дворян была плачевной. Правда, известны и отдельные случаи, когда дворяне ехали обратно, одобряя коммунистическую власть в России. Однако подавляющее большинство тех, кто уехал в эмиграцию, уже не возвращались.
При этом многие воспринимали себя не только как носителей дворянских ценностей, но и как хранителей русской культуры в целом. Они считали, что они поддерживают эти ценности, пока у власти на их родине находятся коммунисты, пытающиеся перекроить все российское общество. Это осознание помогало им жить в трудные годы эмиграции.
Би-би-си: В каких странах и сегодня есть крупные диаспоры потомков русских дворян? Как они пытаются сохранить свои ценности в современных условиях?
Д.С.: Большинство дворян, которые имели непосредственные связи с Россией (родились там или слушали рассказы своих родителей), уже умерли. Поэтому живая связь этих потомков с российским дореволюционным прошлым в основном утеряна.
Сегодня большая часть потомков эмигрантов - это уже полноценные граждане Франции, США, Германии, ведь прошло уже сто лет после революции. Однако попытки сохранить эту связь все же предпринимаются. Например, в США этим занимается Ассоциация российских дворян. Однако с годами становится все труднее и труднее поддерживать работу таких организаций.

Media playback is unsupported on your device
Надежда Дмитриева: "Мои родители были лишенцами"Би-би-си: Вы общались с потомками дворянских родов, которые живут в России?
Д.С.: Да, я общался с потомками Голицыных, Шереметьевых, Трубецких. Всех их объединяет желание знать историю своего рода, желание публиковать мемуары, письма, статьи о своих предках, узнавать больше о вкладе своей семьи в историю России и о жизни своих предков в советские времена, а также передавать эту информацию своим детям.
Би-би-си: Мы видим, что монархические идеалы набирают популярность в современной России. В чем заключается их привлекательность?
Д.С.: Это интересный феномен, и он стал усиливаться в последние два года. Думаю, что во многом это связано с режимом [президента Владимира] Путина, который пытается оправдать свое существование, возрождая к жизни традиционные части русской культуры. Это видно по сегодняшнему отношению властей к церкви, к ценностям царской эпохи.
Конечно, столетие революции привлекает дополнительное внимание к последним представителям династии Романовых и их роли в истории России. Думаю, в этом есть некая ностальгия, многие начинают рефлексировать о том, что жизнь при царях была лучше, чем сегодня.

Media playback is unsupported on your device
Алексей Карпов: "Революцию я воспринимаю как трагедию"Би-би-си: А как это соотносится с ностальгией по советских временам, которая тоже наблюдается в российском обществе?
Д.С.: Я думаю, что во главу угла ставится сильное российское государство. Эта концепция уходит корнями в царское прошлое, во времена Петра I или Ивана Грозного, которому недавно открыли памятник в Орле. После этого была победа в Великой Отечественной войне, с которой российские власти пытаются связать современные успехи страны.
Все это складывается в картину мощного государства, которое часто представляют как осажденную врагами крепость, пытающуюся не допустить врагов на свою территорию. Мне кажется, это та модель, которая сегодня установилась в России.
Как известно, крах Российской империи, революция и появление Советского государства повлекли за собой две волны масштабной эмиграции. Первый раз русские аристократы и представители интеллигенции бежали за границу, спасаясь от смертоносного для них режима, прямо во время того, как в России разворачивались кровавые события государственного переворота. Вторая волна эмиграции, уже не столь большая, состоялась в 30-е годы 20 века. Те, кто по каким-либо причинам не успел оставить свой дом с основной массой бежавших больше 10 лет назад, вырывались из тисков и ловушек обновленной родины и стремились в неродные, но довольно знакомые края, в и Францию . Здесь их, конечно же, не ждала та же устроенная, богатая и размеренная жизнь, что они вели при императоре. Они лишились своего положения в обществе, имущества и привилегий, лишились всего, к чему привыкли с рождения. Но все же это была жизнь! И представители самых знатных родов вели ее с достоинством, что бы им ни приходилось делать для того, чтобы хоть как-то обеспечивать себя и свою семью.
Русские аристократы, проживающие в небольшом доме в пригороде Парижа, сидят за столом и слушают радио. Франция, 1931 год.
Княгиня Мария Ивановна Путятина, сидящая на лавочке со старыми подругами. Франция, 1931 год.

Бывший ректор Технического университета в Санкт-Петербурге Йохан фон Греков, изготавливающий в эмиграции гробы.

Владимир Романович Кнорринг - генерал-лейтенант из дворян Эстляндской губернии, барон.

Павел Александрович Офросимов - бывший генерал-майор, герой Первой мировой войны, разводящий в эмиграции кур.

Бывший губернатор Тульской губернии, живущий на пожертвования баронессы Марии Матавтиной-Маковской.

Князь Борис Владимирович Гагарин, до эмиграции являвшийся председателем Союза Георгиевских кавалеров.

Баронесса Дикова, убивающая время за игрой в пасьянс.

Казачий офицер, работающий в эмиграции кухонным работником.

Русский князь, в эмиграции работающий руководителем прачечной.

Князь, работающий в бельевой комнате.

Православный священник отец Александр.

Казачий полковник, работающий в эмиграции музыкантом в берлинском кафе.

Русский капитан, в прошлом один из крупнейших землевладельцев, чинящий крышу барака.

Бригадный генерал Виктор Петрович.

Бывший командующий 10-м уланским полком, в эмиграции работающий кухонным работником.

Сахно-Устимович из Терского казачьего полка - бывший адъютант царя.

Алекс Авалов, бывший крупный помещик и профессор химии в Санкт-Петербурге, в эмиграции занимающийся производством крепких алкогольных напитков. Германия, Берлин, 1930 годы.

Барон фон Руктешель, до революции 1917 года служивший капитаном гвардейского полка.

Традиционно Франция являлась центром русской эмиграции. И об этом свидетельствуют исторические документы, публикации, литературные произведения. Особенно наглядно это видно при посещении главного русского кладбища Парижа Сен-Женевьев-де-Буа. Именно здесь лежит цвет русского эмигрантского общества. Практически Русский мир в 5220 могилах. Рядом лежат З. Гиппиус и Д. Мережковский, И. Шмелёв и Р. Нуриев, И. Бунин и А. Галич. Первая волна послереволюционной эмиграции, обрушившаяся на страны Европы 100 лет назад, - это грустный итог разрушительных последствий Русской революции, Гражданской войны, разрухи и голода первых лет новой советской жизни.
Справедливости ради надо отметить, что эмигрантской Меккой Париж был и в довоенное время. Официально число русских жителей на начало 20 века составляло 25 000 человек, а вот неофициально их было более 80 000. Всего же, согласно статистике, в 1910 году в Париже официально проживали 2,8 миллиона человек.
Причины, по которым уезжали из России, были во многом схожи. Если «новые» послереволюционные эмигранты бежали от террора властей за своё участие в борьбе против революции, то «старые» расплачивались за свою связь с революционным и национально-освободительным движением.
В Париже выходили эмигрантские газеты, действовали русские кружки, группы. Работали русские кафе и библиотеки.

Естественно, что за всей этой многотысячной и многоликой армией эмигрантов наблюдало всевидящее око Министерства внутренних дел, а ещё точнее - префектура парижской полиции. Именно она повседневно соприкасалась с жизнью эмигрантской русской колонии и чётко осознавала проблемы и опасности, которые привносят в жизнь французской столицы наши соотечественники.
Портал «История.рф» впервые публикует (из Архива Президента Российской Федерации) выдержки из аналитического доклада префектуры парижской полиции в Министерство внутренних дел. Этот доклад охватывает первую волну русской эмиграции, а именно период 1907-1912 годов.
Интересно, а какие аналитические доклады пишут в префектуре парижской полиции сегодня, когда город захлестнули дикие толпы эмигрантов из Африки, Азии и с Ближнего Востока?..
Русские революционные эмигранты в Париже
1. Старые эмигранты
Париж всегда был излюбленным убежищем эмигрантов из Российской империи: радушный приём, а иногда и восторженных поклонников находили здесь польские мятежники; угнетённые евреи принимались с состраданием к природе их несчастья; нигилисты также использовали мистическую легенду, которая окутывала все их действия.
Эмигранты, однако, не представляли собой проблемы ни для Правительства, ни для частных лиц. Они были немногочисленны, а потому быстро растворялись в громадном населении Парижа и по причине своей разобщённости ассимилировались настолько, что их отдельные представители могли участвовать во французской общественной и политической жизни.
Нынче уже не так: последствия войны в Маньчжурии возмутили русское общество. В течение последних лет это привело к ненормальной массовой эмиграции не только отдельных лиц, но и многочисленных групп, ежедневно прибывающих к нам.
2. Новые эмигранты
Надо с самого начала отметить, что среди тех, кто покидал родную землю, первыми по времени были молодые люди, мобилизованные на войну, но из-за страха перед сражениями или в соответствии со своими политическими убеждениями склонившиеся к эмиграции. Большинство же эмигрантов составляют евреи из польских провинций Российской империи, число которых невозможно сейчас точно подсчитать. Оно достигло двух или трёх тысяч человек.
Затем следуют собственно политические эмигранты, исповедующие разрушительные для России убеждения, которые во Франции соответствуют республиканским принципам, но вдобавок главным образом отдельные личности, во все времена и во всех цивилизациях рассматривавшиеся как нежелательные элементы, которых любые правительства стремились либо исключать, либо создать невыносимые условия для их деятельности.
Хорошо известно, что в современной России живёт немало одарённых людей, выступающих за позитивные преобразования своего Отечества. Но трудно поверить в то, что они, как и Лев Толстой, обладающие некоторым сходством с французскими философами XVIII века, симпатизируют убийцам и правонарушителям, каковых французская революция никогда не знала.
В то время как число идеологических эмигрантов чрезвычайно мало, количество тех, кто в России находится под надзором из-за своей причастности к простому бандитизму, растёт.
Среди русских, кто более 30 лет тому назад получил убежище во Франции, даже если кто-то из них приобрёл международную известность, как, например, Кропоткин, нет никого из тех, кто получил французское гражданство, кто бы усвоил французский образ мысли и дух французских традиций.
По причине своей большой численности русские эмигранты могут значительно проще, чем их предшественники, избегать влияния окружающей их французской среды. Они привозят к нам свой менталитет и обретают вместе с полной свободой то, что оставили на Родине: создают здесь своего рода новую партию, которая, если исключить место создания, обладает всеми атрибутами, составляющими основу нации: язык, традиции, общие чаяния, общие антипатии, сходные обычаи.
Их сообщество даже более эффективно, чем в России. Тогда как на Родине великорусы, малороссы, белорусы, литовцы, латыши, финны, киргизы, грузины, армяне, татары и евреи в большой степени разделены по языковому признаку, вновь становятся в Париже настоящими соотечественниками. Они братаются, и когда эти представители различных народов империи собираются вместе, то чаще говорят на немецком языке, который служит у них языком межнационального общения. Это связано с тем, что подавляющее большинство колонии составляют евреи, которые в совершенстве владеют этим языком.
Взаимное проникновение французской и русской культур началось давно. Русский аристократ граф Строганов был активным участником Великой французской революции, а лейтенант Бонапарт просился на русскую службу. В начале 19 века русское высшее общество говорило и писало по-французски. Это не мешало странам воевать между собой. Однако, к концу 19 века дорога во Францию была прочно освоена русскими студентами, купцами и аристократами. Перед первой мировой войной в учились 1400 студентов из России, это была самая большая иностранная община в этом университете.
Полюбился этот город и политическим эмигрантам, особенно социал-демократам. На улице Мари-Роз по сей день открыт музей-квартира Ленина. Здесь же, в Париже чуть позже осел Борис Савинков, российский террорист №1.
Первая мировая война привела во Францию русский экспедиционный корпус из 44000 человек, воевавший на немецком и македонском фронтах. После того, как Россия вышла из войны, солдаты и офицеры продолжали боевые действия и после победы практически все остались во Франции.
Но настоящая лавина русских эмигрантов обрушилась на Париж после поражения белого движения в Гражданской войне. Офицеры всех званий, государственные служащие, аристократы, писатели, художники, их жены и дети, священнослужители, ученые с мировыми именами наводнили великий город. Мало у кого были средства к существованию. Они хватались за любую работу. Парижское такси на много лет стало русским. Есть версия, что название маленьких закусочных «бистро» – это искаженное русское слово «быстро», которым подгоняли нерасторопных официантов вечно торопящиеся таксисты. (Кстати, есть форум о Германии, там много чего по эмиграции в общем).
Но не все становились разнорабочими. Антрепенер Дягилев просто продолжил делать то, что делал всегда – организовывал артистические труппы. Выбор у него был богатым, недаром слава балета Дягилева прокатилась по всему миру. Княгиня Юсупова открыла дом моделей «IrFe». Моделями в нем работали русские аристократки княжеских и графских фамилий. Необыкновенная красота платьев и безупречный вкус мгновенно выдвинули ее в первый ряд модельеров и ввели моду на «русский стиль» по всей Европе. Русский писатель Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
После Второй мировой войны во Франции осели почти 60000 русских. Большинство попало сюда в качестве военнопленных, и укрылись от депортации. Затем, уже в 70-х годах потек сначала тонкий ручеек, а затем целый поток диссидентов. Одним из первых получил французский паспорт великий музыкант Ростропович, за ним последовали Андрей Тарковский и Галич.
Сегодня русская эмиграция в Париже по официальным данным составляет около 5000 русских. В их число не входят студенты, имеющие временную визу, и нелегалы. Новая эмигрантская среда не имеет нечего общего с прежними поколениями, среди них много деловых, или просто богатых, людей.
Публикации раздела Традиции
Романовы в эмиграции
П осле революции 1917 года погибла не только императорская семья, но и многие представители дома Романовых . Выжили лишь те, кто оказался далеко от столицы или вовремя эмигрировал. Вспоминаем, как сложились судьбы великокняжеских эмигрантов.
Анастасия и самозванки


Чудом спасшейся великой княжной Анастасией называли себя около 30 женщин. Наиболее известная из них, Анна Андерсон, рассказывала, что ее, раненую, вызволил из подвала Ипатьевского дома солдат Чайковский, а после «княжна» бежала в Европу. Верили ли ей?
Герцог Димитрий Лейхтенбергский, принимавший ее у себя в 1927 году, утверждал, что княжна не знала русского языка и не была знакома с православными обрядами. Встречалась со «спасшейся Анастасией» и сестра Николая II Ольга Александровна - в 1925 году в Берлине. Позже она рассказала шведскому писателю и славянисту Стаффану Скотту: во время встречи дамы говорили только по-немецки, хотя немецкого ее племянницы не знали. При этом Лже-Анастасия не говорила ни по-русски, ни по-английски.
Проверяла женщину и Вера Константиновна, дочь великого князя и поэта Константина Константиновича:
«Она гостила у меня три дня, и я испытывала ее, в частности, ленточкой с названием императорской яхты «Штандарт». Царевич Алексей по будням носил фуражку с такой ленточкой. Она ничего не поняла, только сказала: «Ты правильно делаешь, что хранишь эту ленточку». Мы говорили по-немецки. Она была очень похожа на Анастасию, это точно. Но с головой у нее было не все в порядке».
В СССР за Анастасию себя выдавала Надежда Иванова-Васильева. Она обращалась в шведское посольство - узнавала адрес проживающей там фрейлины Анны Вырубовой и даже отправляла по ее просьбе фото. Но в Институте судмедэкспертизы имени Сербского ей поставили диагноз «шизофрения».
Международная команда экспертов, проводившая в 2008 году анализы ДНК останков царской семьи, дала однозначный вывод: все представители царской семьи погибли в доме Ипатьева, включая Анастасию.
Скорбь и достоинство Марии Федоровны

Императрица Мария Федоровна. Фотография: yooniqimages.com

Императрица Мария Федоровна. Фотография: ipola.ru

Императрица Мария Федоровна. Фотография: krimoved-library.ru
После революции вдовствующая императрица Мария Федоровна длительное время пребывала в Крыму. Весной 1919 года к полуострову подошли красные, и английский король Георг V собирался вывезти оттуда тетушку на броненосце «Мальборо». В это время в Крыму было множество людей, которые не могли выехать из страны. Внучка Ирина рассказала Марии Федоровне, что для эвакуации людей ничего не делается. Вдовствующая императрица объявила севастопольскому союзному командованию, что никуда не поедет, пока хоть один человек из тех, чья жизнь в опасности, останется в Крыму. Вскоре в Ялту прибыли новые корабли для эвакуации беженцев.
После отъезда из России Мария Федоровна жила в Англии у сестры Александры, а затем перебралась в Копенгаген, где правил Христиан X, ее племянник. Стаффан Скотт, автор книги «Романовы», рассказывает, что отношения Марии Федоровны с королем не заладились. Король через слугу даже попросил ее расходовать свет экономнее, а Мария Федоровна велела зажечь все лампы в своем флигеле. Здание оказалось ярко освещено от подвала до чердака, и отношения вдовствующей императрицы с Христианом Х испортились еще больше.
Позднее английский племянник Марии Федоровны Георг V выделил ей пенсию в 10 тысяч фунтов, и она перебралась в небольшой дворец Видёре на севере Лондона. Однажды вдовствующая императрица получила посылку от датского дипломата: в антикварном магазине Москвы он нашел Библию, конфискованную у Марии Федоровны в Крыму. С этой книгой в руках она и умерла. Мария Федоровна до самого конца не желала признавать смерть сына и несчастье, постигшее царскую фамилию.
Новый русский император

Великий князь Кирилл Владимирович. Фотография: rodovid.org

Великий князь Кирилл Владимирович. Фотография: pokaianie.ru

Великий князь Кирилл Владимирович. Фотография: hrono.ru
Признавать окончательное падение монархии не желал никто, но у великого князя Кирилла Владимировича, потомка Александра II , были на то свои причины. Третий претендент на престол после царевича Алексея и великого князя Михаила Александровича до 1917 года, он стал ее первым законным представителем после расстрела царевича Алексея и великого князя Михаила Александровича. Благополучно перебравшись в июне 1917 года в Финляндию, он избежал, таким образом, жестокой расправы.
Кирилл Владимирович ждал подтверждения смерти наследников, но советская власть не делала прямых заявлений. И все же в 1922 году он сперва объявил себя Блюстителем Государева Престола, а в 1924-м принял титул Императора Всероссийского в изгнании. Поэт эмиграции Бехтеев писал о нем:
На подвиг святой и великий
За Русь и за Веру Христа
Он вышел под буйные клики -
Слуга и Защитник Креста.
Он немало сделал для облегчения участи эмигрантов, но миссией своей видел другое: сохранить монархические традиции и юридические основы императорского дома на случай, если народ России пожелает вернуть монархию.
Однако провозглашение Кирилла императором не одобрили ни Мария Федоровна, ни Николай Николаевич - признанный лидер эмиграции. Именно отсутствие доказательств смерти наследников, по мнению научного руководителя Российского государственного архива Сергея Мироненко, породило в эмиграции раскол. Эмиграция разделилась на кирилловцев, признавших Кирилла императором, и на большинство тех, кто его не признавал.
В целом принятие им императорского статуса, с точки зрения историка-генеалога Станислава Думина, было чем-то вроде символического акта. Нужно было сохранить силу династии хотя бы формально, оттого Кирилл Владимирович и пошел на этот шаг. Сегодня его потомки возглавляют Российский императорский дом.
Дважды великокняжеская семья

Княгиня Ксения Александровна. Фотография: es-kiz.ru


Великий князь Александр Михайлович. Фотография: livelib.ru
Единственная великокняжеская семья, которая полностью уцелела в годы революции, - семья Александра Михайловича, внука Николая I и основателя русского Военно-воздушного флота. Его женой была Ксения Александровна, родная сестра Николая II. Из охваченной революцией России семья выехала вся, включая семерых детей.
Александр Михайлович отбыл раньше всех - он отправился в Париж, где по окончании Первой мировой войны готовилась мирная конференция. Там он долго добивался от союзных государств вмешательства в ход Гражданской войны, но ничего не вышло.
Когда семья воссоединилась, супругам пришлось продать коллекцию монет и картин и драгоценности, чтобы выжить. Однажды бельгийский бизнесмен Альфред Ловенштейн предложил великому князю две тысячи долларов в неделю на пять лет вперед за то, чтобы последний подписывал пригласительные билеты на его званые вечера. Но Александр Михайлович отказался. А Ловенштейн всего лишь хотел выйти в свет и видеть на своих приемах аристократию.
Ксения Александровна с 1925 года жила в Англии у царствующего кузена. Великая княгиня оказывала поддержку Российскому обществу Красного Креста, помогала эмигрантам, продавая акварели собственной работы. Также она участвовала в организации благотворительных вечеров и балов русских организаций: Союза русских дворян, Союза русских летчиков, Морского собрания и других. Ее единственная дочь Ирина также помогала нуждающимся. Вместе с мужем Феликсом Юсуповым в первые же годы эмиграции она основала контору по трудоустройству. Позже супруги открыли салон красоты, где работали русские женщины, а самым крупным их проектом стал модный дом Irfe. Он был очень популярен у европейских аристократов вплоть до 1930 годов, когда наступила Великая депрессия.
Самый юный великий князь


Великий князь Дмитрий Павлович и Коко Шанель. Фотография: russian7.ru

Дмитрию Павловичу на момент Октябрьской революции едва исполнилось 26 лет - он был самым юным из великих князей дома Романовых. За год до переворота он вместе с Феликсом Юсуповым участвовал в заговоре против Григория Распутина. Юсупова тогда сослали в имение под Курском, а Дмитрия - в действующую армию в Персию. В итоге революцию он застал далеко за пределами России. Члены Временного правительства предлагали великому князю вернуться в Петроград после Февральской революции, а когда он отказался, разрешили продать дом и вывезти капиталы.
Центром золотой молодежи, пока та еще могла позволить себе не считать деньги, по-прежнему оставался Париж. Там Дмитрий Павлович и встретил будущую королеву моды Коко Шанель, между ними вспыхнул бурный роман. Великий князь познакомил молодую Габриэль с одним из бывших поставщиков Русского императорского двора, который и подсказал ей рецепт будущих духов «Шанель №5». А сестра Дмитрия Павловича - Мария Павловна - возглавляла в доме Шанель мастерскую вышивки.
Во Франции Дмитрий Павлович одно время работал в винодельческой фирме в Реймсе и даже состоял в совете директоров. Позже он переехал в Америку, где женился на богатой американке Одри Эмери. Она перешла в православие и получила от главы Русского императорского дома в изгнании титул Светлейшей княгини Романовской-Ильинской. Некоторые Романовы хотели присвоить Дмитрию Павловичу звание Императора Всероссийского в изгнании - вместо Кирилла Владимировича, - но тот отказался.